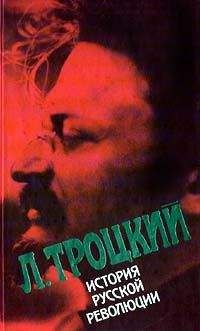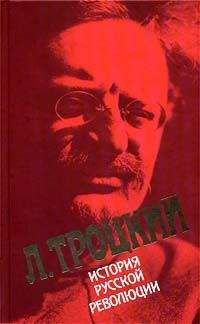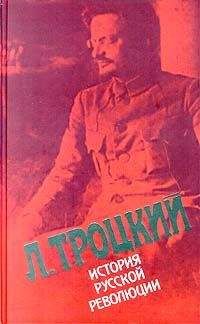Ознакомительная версия.
Во время чтения Параша все время проявляла нетерпение и призывала своего монаха к «радению».
– «Порадеть» бы пора, Варнавушка, што проку в этом чтении, а? Какое твое, андил мой, мнение?
– Погоди, Прасковья, успеется, не торопись. Ишь, плоть у тебя так и играет, так и играет…
– Я и говорю, што мерщвлять пора ее, ишшо более разыграется…
Анфиса кончила чтение. Распутин опять предложил выпить. Выпили.
– Мне очень понравилось ваше чтение, madame Анфиса, – заметила Аннушка, чтобы сказать только что-нибудь, а то воцарилось опять неловкое молчание.
– Благодарствуйте.
– Ярунда, – сердито заметил Кеша. – Быдто нет других делов. Пей, Катенька, и я выпью за твое драгоценное!
Эх, да яй своей милке
Да куплю ботинки.
Новыя, шиковыя,
На подметках дырки…
Вдруг запел он и бросился обнимать Катю.
– Ах, Кеша, какой ты невоздержный.
А сама так и льнула к этому здоровому, сильному телу.
– Гришка, давай халаты али рубахи, што ли, пора начинать. Потому «ой, дух! ой, дух!» – вновь запел Кеша.
Кешу успокоили, и разговор перешел на тему о религии и народе. Аннушка интересовалась, насколько в народе тверда вера в Бога и предано ли крестьянство царю.
– Што касательно религии, нет лучше хлыстовства, особливо радения. Касательно царя, то правду сказать…
Григорий посмотрел на Кешу строго, толкнув под столом ногой. Кеша смутился и продолжал:
– Конешно, если правду сказать… народ царя обожает. Царицу тожа. Изюменка баба! – добавил он заплетающимся языком.
– Господин Кеша! Вы сказали бы своим коллегам, чтобы они писали письма царице о своей преданности простым русским языком, – обратилась к нему Катя.
– Эх, Катюша моя, разлюбезная, у нас-то и писать мало кто может… Брось ты эту канитель, выпьем лучша!
– Мной это дело вполне организовано. В Питер послано писем достаточно, о чем я имел честь донести департаменту полиции, – серьезно сказал Варнава Кате.
– Ах, вы так любезны! Merci, grand mersi! Мы, в свою очередь, тоже постараемся.
Тем временем Параша мигнула Илиодору, и они вышли в соседнюю комнату.
Аннушка, нежно глядя на Распутина, томным, ласкающим голосом уговаривала.
– Нет, Грегуар, знаешь хорошо, что здесь неудобно «радеть» по твоей программе. Приедешь в Петроград, все устроим, как следует. А теперь пощади, ведь я еще неофитка, не привыкла…
– Не согласен. Это что жа такое? Смотри, Аннушка, серчать буду. В Питер не приеду.
Катя, томясь и изнывая в объятиях Кеши, запротестовала:
– Ie nefaut раз regarder derriere soi. Мне надоело faire le careme. Не нужно было начинать. Очень просто, ты упрямишься, потому что не хочешь рискнуть se mettre nu, при твоей массивности.
– Ты эгоистка! Ах, Катиш, неужели тебя не шокирует эта обстановка… Вот что. Поедем к нам, где мы остановились. В нашем распоряжеии целая квартира, и мы прекрасно проведем время, а Варнава и Илиодор останутся здесь.
– Ты как, Кеша? – спросил Григорий.
– Мне все едино, как компания. Ехать так ехать, лишь бы скорее, чего канителиться.
– Mais ilest jovial се luxur ieux beta. Он все торопится, ха-ха-ха! – И Катя залилась веселым смехом.
Распутин о чем-то совещался с Аннушкой, и она ему ответила.
– Ты смотри, Gregoire, я тебя представила, но ты во всем слушай меня, чем оригинальнее будешь, тем лучше. Я знаю, ты ей нравишься…
Все сделаем и архиереем Варнавушку назначим… Кеша, хотя и пьяный, уловил последнюю фразу и стал требовать:
– Я тоже хочу архиреем быть, распрекрасное дело? Можешь,
Катенька, это изделать? А уж угожу я тебе за это самое – во как! Беспременно хочу, штоб архиреем… Мы с тобой будем целоваться, а нам в колокола звонят… Чуде-е-сно…
Катя хохотала, как безумная, слова не могла выговорить.
Придя в себя, она обняла Кешу и ласковым голосом, сдерживаясь от смеха, сказала:
– Я тебя, Кеша, лучше товарищем обер-прокурора сделаю… и звонко, весело опять засмеялась.
– Нет, по полиция не желаю, не хочу ментом быть. Человек я есть блатной…
– Не ментором, – поправила Катя, улыбаясь, – а по духовному ведомству.
– Если по духовному – беспременно архиреем… Однако едем, што ли? Чего время терять.
В комнату вошли, несколько смущенные, Илиодор и Параша. Но на них никто не обратил внимания: шел спор о «радении», а
Анфиса, охмелевшая, дремала, прижавшись к плечу Варнавы, тоже под шумок похрапывавшего.
Наконец, после долгих пререканий предложение Аннушки было принято. Еще выпили «на дорогу», пошумели, и Григорий, Кеша и петербургские дамы уехали. Так «радение» и не состоялось.
– Сармак завтра принесу, – кинул Григорий Параше, прощаясь.
– Смотри не зажиль, Сухостой!
– Qu est се gue с`est capмак, зажиль et сухостой? – спросила Катя подругу, идя рядом с ней к большой карете, в которой обыкновенно ездят архиереи по епархии.
– Не знаю, вероятно, какие-нибудь местные слова, из крестьянского обихода, – ответила Аннушка.
Сзади плелись пьяные Григорий и Кеша, подсадили неловко дам и сами сели в карету, запряженную четверкой лошадей.
Близился рассвет. Где-то далеко, в предутреннем сумерке, прозвучал благовест, призывая к молитве.
Кучер на козлах снял шапку и истово перекрестился. А из кареты доносился пьяный голос Кешки:
– Страсть обожаю, когда в колокола звонят. Беспременно хочу архиреем…
Слова его погасли в громком общем хохоте. Кучер сплюнул и погнал лошадей.
Так было.
Григорий Ефимович Распутин, он же Новых и Сухостой, родился в 1864 году в слободе Покровской Тюменского уезда Тобольской губернии. Вышесредний рост, широкоплечий, с большими мужицкими руками, большая темная, рыжеватого оттенка борода, закрывающая почти весь овал лица, мясистый нос, полные чувственные губы, серые глаза, с белесоватыми точками в зрачках, обычно мутные и сверкающие резким, стальным блеском в момент раздражения – таков Распутин.
Обыкновенный, рядовой тип сибиряка-чалдона, шатающегося по приискам и другим местам легкой наживы, всегда полупьяный, наглый, с гнусавой речью, смелый и дерзкий с бабами, а потому имеет у них большой успех.
Село Покровское – захудалое, глухое, бедное. И его жители даже в Сибири отличались дурной славой. Бездельники, воры, конокрады. Под стать им была и семья Распутина и сам он, когда подрос.
В молодости Григорий был каким-то особенно незадачливым. С гнусавым голосом, с нечленораздельной речью, слюнявый, грязный до последней степени, вор и ругательник, он оказывался страшилищем и для своего родного села, видавшего всякие виды. Постоянным бездельем он вызывал гнев своего отца, и тот его неоднократно поколачивал. Но проделки его шли дальше и, по свидетельству местных старожилов, «пахли» уголовщиной. Сколько сошло их с рук будущего «старца», неведомо. Но о некоторых сохранились следы в местных судебных учреждениях.
Таковы дела о конокрадстве Григория Распутина и лжесвидетельстве.
Вследствие каких-то таинственных влияний следствие по первому делу так-таки и осталось незаконченным.
В объяснение такого озорства будущего «старца» его родные и близко знавшие его ссылались на исконную страсть его к вину. «Напьется и лютым становится», – говорили они. Тогда готов он на все, даже до «греха» разойдется. Эта склонность к скандалам в состоянии опьянения осталась у него и впоследствии, когда он разыгрывал роль «вестника потустороннего мира» и пользовался неограниченным влиянием в высшем свете.
Как ни «куролесил» неудачник Григорий, отцу все же удалось его к 30 годам женить.
Кое-как пристроил он его и к извозному промыслу. Тут случай сыграл огромную роль в судьбе этого, казалось бы, совсем пропащего забулдыги и пьяницы. Он сам передавал, что однажды ему пришлось везти духовное лицо, которое много расспрашивало его о жизни. Путник много говорил о монастырях, о спасении души…
После того вскоре начался новый период распутинской жизни, который можно бы назвать переходным и подготовительным к будущим его успехам. Григорий мало-помалу стал отставать от пьянства и сквернословия. Как определяют это состояние его близкие, он «остепенился» и «задумался». Вместе с тем он стал заботиться о некотором благообразии: начал умываться, носить более приличную одежду и пр.
С этим временем совпадают его хождения с кружкой для сбора пожертвований для построения храма и усиленные посещения монастырей и всяческих святых мест. Отец, жена и родственники были в восторге от такой перемены в характере Григория, односельчане же изумлялись и не верили в искренность его исправления.
В это время в самые отдаленные монастыри он ходил пешком и босой. Питался скудно, часто голодал, по прибытии в монастыри постился и всячески изнурял себя. Вполне точные сведения говорят, что он в то время носил тяжелые вериги, оставившие на его теле заметные рубцы. Он водится с юродивыми, блаженненькими, всякими божьими людьми, слушает их беседы, вникает во вкус духовных подвигов.
Ознакомительная версия.