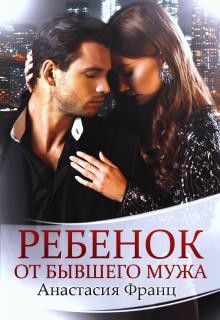– одобрила меня женщина в махровом халате и пушистых смешных тапочках и тонкой сигаретой в глянцевом фильтре лишила меня девственности. Так началось моё знакомство с жильцами, как мне показалось, всего подъезда, со всех этажей. Я стоял на подоконнике между последним и предпоследним этажами, наиболее безлюдном месте. Курить здесь, в доме с редким балконом, удобнее всего; вероятность быть обматерённым какой-нибудь бабкой или многодетной мамашей, минимальна.
Вечерами мужики выпивали небольшими компаниями, обычно по двое, и приходили ко мне жаловаться на жизнь, работу, детей-двоечников и вообще на всё, что, по их мнению, было не в их власти. Во всём этом беспорядке они обвиняли какого-то пидараса и власть. Чуть позже они приходили к выводу, что у власти тоже стоят пидарасы. Затем выяснялось, что во всём власть и виновна, от того это и есть один и тот же пидарас. В общем, несмотря на свою эфемерность, пидарас был самым пострадавшим. Частенько попойка их перемещалось из квартиры ко мне: когда из-за сварливой жены, когда из-за длинной сигареты, а когда и из-за того, что не было у бухающих тут квартиры.
Приходили и женщины. Жаловались в большинстве своём на мужей, что те пьют, бьют, блюют, уволены и пагубно влияют на детей. Я же был как поп при исповедальне. Казалось бы, просто жестяная банка, ан нет, психолог, философ и просто – старый друг, уши которого всё стерпят, всё поймут, всё простят. Здесь, у меня, женщины не трепались, не обсуждали мыльных опер и не перемывали кости подругам. Здесь, у меня, женщины были схожи с мужиками и разговаривали о наболевшем.
Подростки тоже приходили ко мне. Они курили молча и по-быстренькому. Но бывало и как взрослые, под градусом и с рассуждениями. Девчонки курили через бельевую прищепку, дабы не пропахли руки. Они же и опустошали меня ‒ будущие хозяюшки.
Глубокой ночью обречённые лица заканчивались, а из неплотно заваренного люка мусоропровода выползали тараканы и растворялись в темноте. Я оставался наедине с резким запахом окурков, прущим прямо из меня. Иногда, если мусор во мне дымил, запах окурков разбавлялся креплёным пивом. Я оставался наедине с этим запахом, с ползающими по мне тараканами и мыслями. За день через меня проходили обречённые на печаль люди и делились своими проблемами, а порой и бедами. Я знал личную историю каждого, хотя давно уже не желал её знать. Я оставался наедине со своими мыслями о печальных и обречённых людях, и от этого уныние моё росло и сумасшествие приближалось. Это был очень длинный сон.
К рассвету тараканы сотворялись из неоткуда. Они выползали из углов, щелей, меня, и спешили в своё убежище – мусоропровод. С рассветом здание озарялось и покрывалось старостью. Старость его вылезала из символического ежегодного ремонта в виде подкрашивания осыпавшихся стен. Возле потолка я приметил замысловатую паутину из растрескавшейся штукатурки. Она была похожа на произведение современного искусства: трещины создали подобие пчелиных сот, и некоторые соты выпали, а за выпавшими сотами находились другие соты, поменьше, где тоже выпали некоторые ячейки. С каждым днём я проникался всё глубже и глубже в эту картину, и где-то между ней, обречёнными и тараканами, сходил с ума. Я чувствовал это. Знал, что он настанет, момент, когда рассудок мой кончится. Граница между здравомыслием и сумасшествием заключается в каком-то давящем жжении в мозгу, которое накатывает, когда душе особенно плохо. При этом хочется кричать, стиснуть зубы, зажмурить глаза, оскалиться и кричать. И если не пересилить себя, если не откатить это желание, то конец. Я чувствовал, я знал это и откатывал. Но с каждым новым приступом откатывать его становилось всё тяжелей. Я уже не знал – справлюсь ли в следующий раз, но знал, что однажды не справлюсь.
Пришли двое мужчин.
– Я в молодости тоже бегал налево, и делал это регулярно, но то – другое, то – по молодости, а сейчас, в возрасте...
– А что ты хотел? Какой привет, такой и ответ. Она знала про твои похождения?
– Знала, – ответил мужчина на глубоком выдохе и с болью.
– А предъявляла?
– Нет.
– А теперь твоя очередь молчать и терпеть.
– Я всё понимаю, она имеет на это моральное право. Мои похождения в молодости, теперь ещё проблемы с эрекцией... Но то, что она делает... Она просто унижает меня. Средь бела дня, при мне, в халатике, да к молодому соседу. Последняя фраза выходила уже со слезами.
А вечером другая картина. Вечером появилась дочь того самого рогоносца. Девушка вытащила изо рта жвачку и потянула руку ко мне, но её ярко-розовый маникюр в исполнение подруги, только-только набивающей руку, нырнул под подоконник и приклеил жвачку там ‒ школьная привычка, по всем признакам, девушка – старшеклассница.
Её кавалер, бритоголовый пацан в спортивном трико, проявил внимание к своей даме, нырнув рукой под юбку, что поднялась до бесстыдства, когда девчонка нагнулась, и крепко взял её за попу. Барышня хихикнула и проинформировала кавалера что в рот всё равно не возьмёт. Тогда спортивные трико приспустились, и кавалер вошёл в свою леди сзади, от чего у той лицо стало ещё довольней, чем было, а локон наигустейших кучеряшек, что возможны первые семнадцать лет жизни, упал в меня.
⸙※†※⸙
Кресты
10:00
Будильник так противно пиликает и парень в моей голове предложил мне идею:
‒ Давай ‒ говорит ‒ переведём будильник на 9:55, проснёмся и переведём его обратно на 10:00. Так, мол, мы выиграем десять минут сна. Идея мне показалась гениальной. Я осёкся уже когда переводил. Зачем так издеваться над собой? ‒ Спросите вы ‒ если никуда не опаздываешь; ты ведь лёг пару тройку часов назад. Я, Айвенго и Эйприл договорились встать хотя бы в десять и начать поиски новых идей. Это и есть наша работа. Деньги сами себя не спи́здят.
Я вышел из комнаты. Эйприл пожарила нам яйца; мне с помидором, Толстому с сосиской, всё как мы любим, но в одной сковородке и вперемешку. Эйприл уже во всю щёлкала по телефону. Эта чистая тварь сидела там, за столом, и с фейкового аккаунта знакомилась в соц. сетях со взрослыми мужиками. Похотливые ублюдки писали ей вкусные разности и обильно заливали фото. Она заставляла их голышом фотаться перед зеркалом вместе со своим стояком. И те, лгали что холосты,