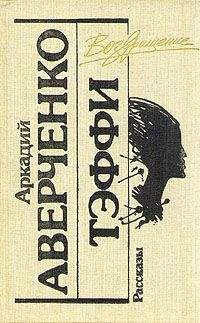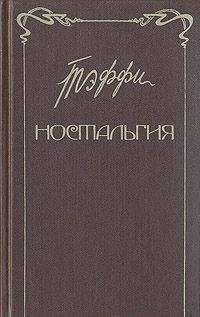Девка косится испуганно, подбирает прямоступные ноги под розовую юбку. Сопит, вздыхает.
Кучеру тоже захотелось поговорить.
Он мало знает. Был в солдатах. Давно. Гнали на неприятеля. А потом еще куда-то гнали. И еще гнали. А куда — и не помнит. Всего не упомнишь.
— Три года дома не был. А пришел домой, жена: «Федорушка, здравствуй». Детки то же. А в углу, смотрю, люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю: «Это кто же у вас в люльке-то?» — «А это, — говорит, — маленький». Ну, маленький так маленький. А на третий день спрашиваю старшенькую: «А откуда же у вас маленький-то взялся?» — «А бабушка, — говорит, — принесла». Ну, бабушка так бабушка. Расти стал. Слышу, — Петькой зовут. Ничего, выкормился. О прошлом годе сына женил, Петька-то. А я так и не спросил, откуда он. Теперь, чать, и сами забыли...
— Вот не помню, — шепчет старуха. — Не помню, когда корова именинница... Неловко так-то не знать. Стара стала, забывчива. А грех, коли обидишь...
Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора.
Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи, да разговоры, да наряды, да суетня всякая.
— И когда это корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнешь либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит. А там наверху ангел заплачет...
Худо старому человеку! Худо!
Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что, — вспомнить нельзя.
Тихо шуршат забытые рекой камыши.
Ушла река. Камыши забыла.
Дмитрий Петрович вышел на террасу.
Утреннее солнышко припекало ласково. Трава еще серебрилась росой.
Собачка любезно повиливала хвостом, подошла и ткнула носом в колено хозяина. Но Дмитрию Петровичу было не до собаки.
Он нахмурил брови и думал:
— Какой сегодня день? Как его можно определить? Голубой, розовый? Нет, не голубой и не розовый. Это пошло. Особенный человек должен особенно определять. Как никто. Как никогда.
Он оттолкнул собаку и оглядел себя.
— И как я одет! Пошло одет, в пошлый халат. Нет, так жить нельзя.
Он вздохнул и озабоченно пошел в комнаты.
— Жена вернется только к первому числу. Следовательно, есть еще время пожить по-человечески.
Он прошел в спальню жены, открыл платяной шкаф, подумал и снял с крюка ярко-зеленый капот.
— Годится!
Кряхтя, напялил его на себя и задумчиво полюбовался в зеркало.
— Нужно уметь жить! Ведь, вот! — пустяк, а в нем есть нечто.
Открыл шифоньерку жены, вытащил кольца и, сняв носки и туфли, напялил кольца на пальцы ног.
Вышло по ощущению и больно, и щекотно, а на вид очень худо.
— Красиво! — одобрил он. — Какая-то сплошная цветная мозоль. Такими ногами плясала Иродиада, прося головы Крестителя.
Достал часы с цепочкой и, обвязав цепочку вокруг головы, укрепил часы посредине лба. Часы весело затикали, и Дмитрий Петрович улыбнулся.
«В этом есть нечто!»
Потом, высоко подняв голову, медленно пошел на балкон пить чай.
— Отрок! — крикнул он. — Принеси утоляющее питье.
Выскочил на зов рыжий парень, Савелка, с подносом в руках, взглянул, разом обалдел и выронил поднос.
— Принеси утоляющее питие, отрок! — повторил Дмитрий Петрович тоном Нерона, когда тот бывал в хорошем настроении.
Парень попятился к выходу и двери за собой прикрыл осторожно.
А Дмитрий Петрович сидел и думал:
«Нельзя сказать ни розовый, ни голубой день. Стыдно. Нужно сказать: лиловый!»
В щелочку двери следили за ним пять глаз. Над замком — серый под рыжей бровью, повыше — карий под черной, еще повыше — черный под черной, еще выше — голубой под седой бровью и совсем внизу, на аршин от полу, — светлый, совсем без всякой брови.
— Отрок! Неси питие!
Глаза моментально скрылись, что-то зашуршало, зашептало, заохало, дверь открылась, и рыжий парень, с вытянувшимся лицом, внес поднос с чаем. Чашки и ложки слегка звенели в его дрожащих руках.
— Отрок! Принеси мне васильков и маков! — томно закинул голову Дмитрий Петрович. — Я хочу красоты!
Савелка шарахнулся в дверь, и снова засветились в щелочке глаза. Теперь уже четыре.
Дмитрий Петрович шевелил пальцами ног, затекшими от колец, и думал:
«Нужно выбирать стиль. Велю по всему балкону насыпать цветов — маков и васильков. И буду гулять по ним. В лиловый день, в зеленом туалете. Красиво! Буду гулять по плевелам, — ибо маки и васильки суть плевелы, — и сочинять стихи».
В лиловый день по вредным плевелам
Гулял зеленый человек.
— Кррасота! Что за картина! Продам рожь, закажу художнику Судейкину, — у него есть дерзость в красках. Пусть напишет и подпишет:
«По вредным плевелам. Картина к стихотворению Дмитрия Судакова».
А в каталоге можно целиком стихотворение напечатать:
В лиловый день по вредным плевелам
Гулял зеленый человек.
Разве это не стихотворение? Что нужно для стихотворения? Прежде всего, размер. Размер есть. Затем настроение. Настроение тоже есть. Отличное настроение.
— Управляющий пришел, — высунулась в дверь испуганная голова.
— Управитель? — томно закинул голову Дмитрий Петрович. — Пусть войдет управитель.
Вошел управляющий Николай Иваныч, серенький, озабоченный, взглянул на капот хозяина, на его ноги в кольцах, часы на лбу, вздохнул и сказал с упреком:
— Время-то теперь уж больно горячее, Дмитрий Петрович. Вы бы уж лучше после.
— Что после?
— Да вообще... развлекались.
— Дорогой мой! Стиль — прежде всего. Без стиля жить нельзя. Каждая лопата имеет свой стиль. Без стиля даже лопата погибнет.
Он поправил часы на лбу и пошевелил пальцами ног.
— Вы, Николай Иваныч, человек интеллигентный. Вы должны со мной согласиться.
Николай Иваныч вздохнул и сказал с упреком:
— В поле не проедете? Нынче восемьдесят баб жнут.
— Жнут? Мак и васильки?
— Рожь жнут, — вздохнул Николай Иванович. — Велели бы запречь шарабан, а то потом жарко будет.
— Это хорошо. Это я приемлю. Отрок! коня!
— Шарабан прикажете? — выпучил глаза рыжий парень.
— Ты сказал! — ответил Дмитрий Петрович с жестом Петрония.
— Так вы переоденьтесь, я подожду, — вздохнул управляющий.
Дмитрий Петрович машинально пошел одеваться. Снял кольца, надел сапоги, косоворотку, картуз. Сели в шарабан. Управляющий причмокнул, лошадь тронула, и Дмитрий Петрович невольно подбоченился.
— Эхма! Хороша ты, мать-сыра земля!
Но тут же устыдился и сказал тоном Петрония:
— На колеснице, о друг мой, следовало бы ехать стоя.
Выехали на поля.
Замелькали, то подымаясь над желтыми колосьями, то опускаясь за них, пестрые платки жниц.
Где-то с края зазвенела переливная и укающая бабья песня.
И снова подбоченился Дмитрий Петрович, усмехнулся, шевельнул бровью, ухарски заломил картуз, ткнул локтем в бок Николая Иваныча.
— А что, Пахомыч, уродил нынче Бог овсеца хорошего, — сказал он, указывая на полосу гречихи. — Ась?
Управляющий молчал.
— Этаких бы овсов побольше, так и помирать не надо. Правда аль нет, Пахомыч? Ась? Прости, если что неладно согрубил.
— Овес плох в этом году, — уныло ответил Николай Иваныч. — Покупать придется.
— А ты, Пахомыч, не тужи, — не унимался Дмитрий Петрович. — Чать, сам знаешь: быль молодцу не укор.
Он спрыгнул с шарабана и молодецки зашагал по сжатому полю.
— Здорово, молодицы!
Сел на копну и долго пел, фальшивя и перевирая слова, единственную русскую песню, какую знал:
Во саду ли, в огороде
Собачка гуляла,
Ноги тонки, боки звонки,
Хвостик закорючкой.
Потом сказал сам себе:
— Эх, малый, спроворить бы сюда жбан доброго квасу нутро пополировать.
Прибежал рыжий Савелка звать к завтраку.
— Може, прикажете еще васильков нарвать, — осведомился парень. — Там Никита принес охапку, да не знает, куда ее девать. Пелагея говорит, припарки из их делать будете. Так, может, еще нарвать.
— Нет, не надо! — отрывисто сказал Дмитрий Петрович и грустно опустил голову.
— Что я наделал! Пел про боки звонки.. сапоги надел, квас пить собирался. Зачем? К чему? Кому это нужно? Разве это мой стиль? Что я наделал! О, красота, как скоро я забыл о тебе!
Он поплелся домой пешком, печально меся ногами бурую, мучнистую пыль.
— И зачем я создал это:
В лиловый день по вредным плевелам
Гулял зеленый человек.
— Зачем? Несчастный я человек. Кручусь без стиля на одном месте, как козел на привязи.
«Зеленый человек»! Далеко тебе, брат, до зеленого человека, как кулику до Петрова дня. Зеленым человеком родиться надо, а насильно в себе зелени не выработаешь. Так-то-с.