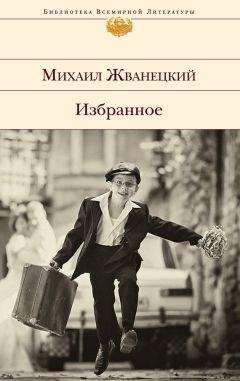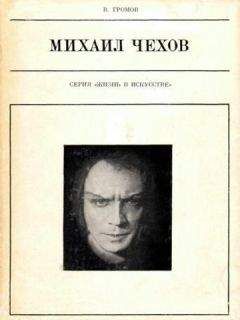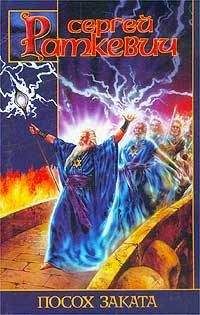Ознакомительная версия.
На фоне всеобщей стабилизации, при условии отсутствия войн или изобилия отечественных товаров, что по последствиям одинаково, грядет появление женщины. Реклама косметики и прокладок долго воспринималась нашими мужиками как издевательство. Они знают нашу бабу в плюшовке, прикрывающую рукой зубы, ноги, плечи, грудь.
Какой крем? Что им смазывать? Руки?
А лом чем держать? Смазанными руками?
Что это за товары для женщин? Ты сначала различия найди.
И тут вдруг получилось, что появление этих товаров вызвало поиск этих различий. Появление прокладок вызвало поиск мест для их применения. Эти места нашлись и у нас в стране, известные как лучшие места отдыха трудящихся. В целях применения французской косметики стали искать лицо и нашли его. А когда разгребли отечественную пыль и ругань, лицо оказалось прекрасным, как и руки. О ногах без слез говорить не будем. Ибо столько искалеченных, переделанных в мужские фабриками «Скороход», «Красный пролетарий», «Восход», «Закат». В стране не осталось ни одной ноги!
Пролетарское государство делало все, чтоб женскую ножку превратить в ногу, в конечность, в копыто, упрятать в валенки, чуни, кирзовые сапоги или кеды имени Бадаева. Когда мы извлекали их оттуда, мы плакали: «За что?» Оставить наших женщин без ног, зубов и глаз. Косить комбайнами на физкультурных парадах, держать в высоких пирамидах и в глубоких черных трусах передовика…
И если наш мужик мозолистой ладонью мог полировать отечественный коленвал, что, кстати, говорит о низком качестве металла, то о какой ответной ласке может идти речь, если женщина такой же ладонью… такой же ладонью… Отсюда столько лысых…
Сейчас идет медленный процесс превращения бабы в женщину. Процесс, связанный с поставками из Парижа, с переводом отечественных танковых заводов на выпуск кремов и полосканий. Одна замена металлических зубов наших сельских жителей даст южнокорейским судостроителям миллионы тонн качественного металла и позволит изготовить тысячи протезов, но уже рук и ног, для новых независимых государств. Ибо независимость берут своими руками, но удерживают ее уже протезами!
Так что телевизионные подробности женской жизни пусть нас не раздражают, если мы вспомним, чем они пользовались раньше! Ведь кровавей бойни, чем женские отделения больниц, не бывает. И просьба о наркозе была мольбой о милости Божьей, чтоб через три часа тут же уйти в полном презрении и крови. И вот теперь мини-шорты-эластик открыли нам такое!..
В очищенной красоте нашей женщины воплотились вековые мечты нашего же околевающего от холода, голода и одежды зэка, с вечным паркинсоном в виде отбойного молотка. А когда мы впервые увидели нашу женщину не в миске, а под душем, то поняли, что значит, когда капли стекают, не задерживаясь.
Этот процесс еще может тормозиться, но скорее от бедности, чем от темноты.
Слава телевидению, что в жарких поисках денег наткнулось на женщину. Для мужчин у них пока ничего нет. Одеколон серии «Клуб» мозги не развивает и тоже предназначен для женщин.
Теперь дети. Если женщины появились поздно, то детям появляться рано. Для них пока условий нет. Тут советская власть кое-что хорошее имела. Не в лице яслей, не в лице садов, а в лице школы. Малой средней школы.
Именно здесь задерганные преподаватели передавали зачуханным ученикам свои знания и взгляды. И именно здесь не успевала следить советская власть и не догадывалась сажать так рано. И в результате этих преступных контактов появились разные Солженицыны, Сахаровы, Барышниковы, Нуриевы, Башметы, Кремеры, три пары Ашкенази, я, Толя, Битов, Резо…
Это было в школе, куда насильно опускалась мыслящая часть передового авангарда для встречи с местным хулиганьем, из которого и вырастала честь и слава Родины нашей.
Руки не дошли у советской власти.
Здесь писались сочинения. Здесь учились математике. Здесь постигали азы вежливости. Чтоб забыть потом обо всем этом в камнедробильных буднях великих строек, смысл которых был «назло Америке».
«Назло Америке» мы многого достигли. Мы даже чуть не сблизились в науке, едва не уничтожив земной шар.
Не надо расстраиваться, нам еще есть чем им подгадить. На своей территории, конечно.
Ничего. Ветром перенесет.
Так вот, детям сейчас появляться рано. Учителей не стало. А те, что есть, основные правила пишут на себе в виде татуировок с иллюстрациями. Эти педагоги знают, как переломать, но не знают, как срастить. Преподают на базарах и вокзалах. Качают мышцы, откачивая из мозгов. Эти преподаватели сами ждут, что им что-нибудь придумают еще, кроме телефона, факса, «БМВ».
Они имеют всё. Вот ради чего?..
Они готовы купить ответ на этот вопрос.
Но продавцы уехали.
Так что детей я бы пока не рожал
А) до окончательного заполнения консерватории,
Б) до окончательного превращения толпы в публику.
Шел еврейский конгресс в Москве. Я пошел впервые и слегка томился, ожидая перерыва. Перерыв наступил через два часа. Я мчался в туалетную комнату. Меня остановил старый еврей в таком же сером костюме.
– Послушайте, я давно хотел с вами познакомиться. Я хочу рассказать вам историю. Она вам пригодится.
Еще историю слушать. Будь она проклята, эта популярность. Я два часа иду тридцать метров. Я спешу. Я по-настоящему спешу.
– Вы знаете, я давно люблю…
– Я знаю.
– Нет. Гердта… Зиновия Гердта. Я живу в Твери. Вы понимаете. Я узнал, что он умер. Я специально поехал. Я так хотел с ним познакомиться, и так не повезло. Но я поехал.
– Извините… Можно…
– Нет… Вас потом не найдешь. Я поехал его повидать. Ну хоть похороню. Вы знаете, я принес букет. Я положил на гроб. И я решил поехать на кладбище. Мне шестьдесят девять… Это тяжело, вы знаете.
Они попросили меня с каким-то пожилым человеком нести венок.
– Я умоляю…
– Минуточку. Вам это интересно. И мы с этим человеком несли этот венок. Очень тяжелый. И он отказался, мой напарник. Он сказал, что не может, что у него был инфаркт. И я потащил один. Я думаю, килограммов пятьдесят. Зачем я поехал! Зачем я тащил! Я тащил один. Через все кладбище. Огромный венок. Я очень любил Гердта. Но у меня не было сил. У меня астма. Я задыхался. Я умирал. Я думал: «А он бы сам смог тащить?» Я проклинал этот день.
– Все! Извините… Я уже не могу.
– Подождите.
– Нет. Все. Я бегу.
– Бегите, бегите. Я не сказал самое главное. На венке было написано: «Дорогому, любимому от Михаила Жванецкого». Вы слышите, у меня к вам просьба. Или пишите меньше, или тащите сами, если вы его так любите.
Мы ведь как летали по Америке.
Мы покупали за 400 долларов стэндбай, это значит – на свободные места и в течение месяца летай куда хочешь на свободных местах. В общем, всегда у туалета.
Летим из Нью-Йорка. Я на предпоследнем. На самом заднем расположились двое: один – мой товарищ с американской стороны, другой – мой друг с российской стороны и, дико ругаясь, подводят баланс.
– Такси. Два доллара.
– Я платил.
– Нет, я платил.
– Гостиница, триста долларов, я платил?
– Я платил.
– Это ты платил?
– Обед в день прилета, шестнадцать долларов. Кто платил?
– Никто не платил.
– Как никто? Нас бы арестовали.
Я у прохода.
У окна молодая негритянка от восемнадцати до двадцати пяти, на голове сорок тысяч косичек. Непрерывно двигается, толкается, касается и тут же подозрительно смотрит.
Что-то у нее происходит под одеялом, в результате она то в шортах, то в джинсах, то в юбке, то в халате. Поселилась в этом кресле, а я сосед.
И все время касается и тут же подозрительно смотрит.
У меня ощущение, что я к ней пристаю.
Хотя сидеть у́же, чем я, невозможно.
Обычно я по-английски произношу одну фразу. Я эту фразу могу говорить на четырех языках без акцента: «Я вас не понимаю». После этого все начинают со мной быстро говорить.
Лететь шесть часов. Она уже полчаса говорит. И я уже понял, спрашивает, откуда, куда и кто я такой. К этому времени она была в шортах и легкой кофточке на свое голое, свое юное, свое цветное тело. Лететь всю ночь. Рядом ароматное нежное создание спрашивает, кто ты такой. А ты как древняя обезьяна молчишь и только виляешь, виляешь и смотришь, смотришь. Ввиду отсутствия хвоста, виляешь всем телом.
Учите английский, мужики, это еще сто тысяч женщин!
И тут мне приходит в голову последняя мысль. Я достаю из портфеля буклет, то есть расписание концертов. Там по-английски моя биография. И сказано, что 16 мая мой авторский вечер в Карнеги-холл… И если, думаю я, после этого мы оба не уйдем под ее одеяло, я последний советский кретин… Что и оказалось.
Она спросила:
– Это кто?
– Я, я… Вот же мой портрет.
– Карнеги-холл?!
– Да, да…
– Ваш концерт.
– Да, да… Вот же мой портрет.
– И вы сидите в хвосте и вся очередь в туалет опирается на вашу лысую голову?
Ознакомительная версия.