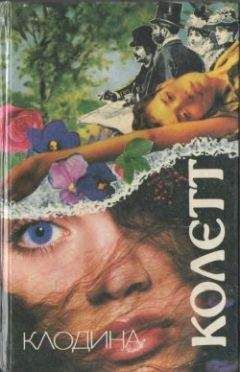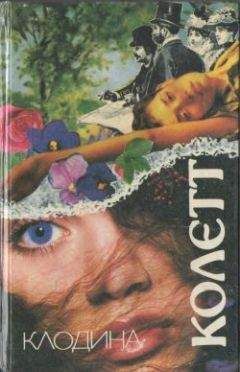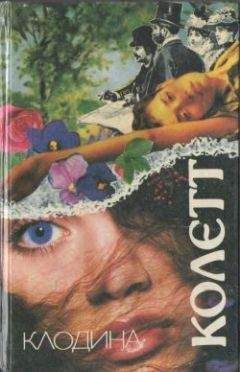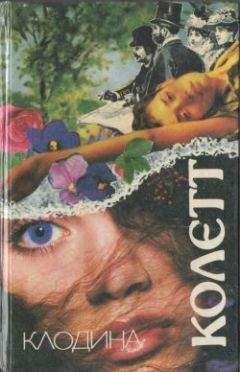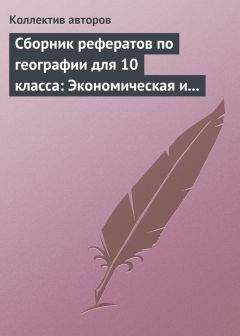Сидони-Габриель Колетт
Клодина в школе
Зовут меня Клодина, я живу в Монтиньи. В 1884 году я здесь родилась, а умру, скорее всего, где-нибудь в другом месте. В моём учебнике географии, где даётся описание департаментов, читаю: «Монтиньи-ан-Френуа – красивый городок, 1950 жителей, расположен амфитеатром на реке Тез, среди достопримечательностей – хорошо сохранившаяся сарацинская башня…» Что за скучища, в самом деле! Перво-наперво, никакой реки Тез нет. Насколько мне известно, считается, что она течёт внизу по полям, за железнодорожным переездом, но в любое время года воды в ней – воробью по колено. «Монтиньи расположен амфитеатром»? А вот и нет. Скорее сами дома сбегают с вершины холма в долину. Они громоздятся уступами под громадным замком, перестроенным при Людовике XV и уже обветшавшим – даже больше, чем низкая, сплошь увитая плющом сарацинская башня, которая тоже осыпается прямо на глазах. И это вовсе не город, а деревня: улицы, к счастью, немощёные, и вода после ливня стекает узкими бурными потоками, так что часа через два дорога уже сухая. Это деревня, притом не слишком красивая, но я её обожаю.
Густые, буйно разросшиеся леса, привольно шумящие повсюду, покуда хватает глаз, – вот в чём прелесть и очарование здешних мест, где холмы разбегаются над узкими, похожими на овраги долинами… Кое-где виднеются проплешины зелёных лугов и редкие клочки возделанных полей, но всё вбирает в себя великолепный лес. Так что этот благословенный край живёт в страшной бедности: красные крыши немногочисленных ферм, раскиданных там и сям, только оттеняют бархатистую зелень лесов.
Милые, так хорошо знакомые мне леса! Я исходила их вдоль и поперёк. И лесные вырубки, поросшие молодыми деревцами, яростно раздирающими лицо путника. В светлых рощицах полным-полно земляники, ландышей и… змей. При виде этих ужасных, маленьких, гладких и холодных существ, скользящих у моих ног, меня частенько охватывал удушливый страх. Раз двадцать, не меньше, мне случалось замереть, едва переводя дух, обнаружив у самой своей руки, возле куста мальвы, изящно свернувшегося ужа, выставившего вверх головку и не спускающего с меня золотистых глазок. Ужи не ядовитые, но какая жуть! И всё равно я снова возвращалась в лес – одна или с подружками; чаще одна, потому что эти дурёхи действуют мне на нервы: то они опасаются порвать платья о колючки, то пугаются зверюшек, мохнатых гусениц или хорошеньких, круглых и розовых, словно жемчужины, травяных паучков; бестолковые девицы без конца орут и чуть что уже устали – в общем, спасу от них нет.
У меня есть любимые деревья, которым лет по шестнадцать-двадцать; сердце кровью обливается, когда такой лес вырубают. Подлеска нет, деревья стоят как колонны, но на узких тропинках, где в полдень темно почти как ночью, голоса и шаги звучат тревожно. Как же я люблю здесь бывать! Всмотришься в зелёное сияние, таинственно мерцающее вдали меж деревьев, и душу переполняют одиночество, покой и лёгкое волнение – так сумеречно, такая глухомань кругом… Среди высоченных стволов никакой мелкой живности нет и в помине, травы не растут, земля утоптанная – то сухая и гулкая, то мягкая вблизи родников; порой пробежит белохвостый кролик или мелькнёт пугливая белка, которую толком и не разглядишь, так быстро она мчится, а ещё тут водятся неповоротливые золотисто-красные фазаны, кабаны (я, правда, их ни разу не видела) и волки – одного я слышала в начале зимы, когда собирала буковые орешки, славные, маленькие, маслянистые, от них першит в горле и нападает кашель. Иногда в этом высоченном лесу тебя застигает ливень; стоишь съёжившись под самым развесистым дубом и молча слушаешь из своего укрытия, как дождь стучит по кронам деревьев, будто по крыше, а потом вылезаешь из чащобы, ошеломленно и растерянно щурясь от яркого солнечного света.
А ельники! Не густые и не слишком загадочные – я люблю их аромат, розовый и лиловый вереск под ногами, песни ветра в ветвях. Идёшь через частый строевой лес и вдруг – о чудо! – выходишь на берег спокойного, затерянного в лесу глубокого пруда, окружённого со всех сторон деревьями. А посередине пруда, на островке, растут ели. Нужна немалая смелость, чтобы проползти туда по вырванному с корнем дереву, перекинутому под водой. Под елями разжигаешь костёр, даже летом, именно потому что нельзя, и печёшь на нём что под руку попадётся: яблоко, грушу, картошку, которую стащила на поле, а если и этого нет – кусок ржаного хлеба. Он пахнет горьким дымом, смолой – жуть какая прелесть!
Десять лет бродила я по лесам, забывая обо всём на свете, завоёвывая и открывая для себя этот мир. В тот день, когда придётся с ним расстаться, я буду горевать всей душой.
Два месяца назад мне стукнуло пятнадцать, я отпустила юбки до щиколоток, нашу старую школу сломали и нам поменяли учительницу. Юбки пришлось отпустить из-за того, что на мои ноги уже пялили глаза, с голыми ногами я стала самая настоящая барышня; старая школа развалилась на глазах, а на место нашей учительницы, злополучной мадам X., сорокалетней уродины и невежды, но добрячки, вечно терявшейся перед инспекторами, позарился кантональный уполномоченный доктор Дютертр, он вознамерился посадить на него свою протеже. А у нас все пляшут под дудку Дютертра.
Бедная старая школа, ветхая, пропахшая сыростью, но такая забавная! И пусть теперь строят новые роскошные здания, я никогда тебя не забуду.[1]
На втором этаже были комнаты для учителей – мрачные и неудобные, на первом – наши два класса, старший и младший, занимали две комнаты, на удивление уродливые и грязные, с обшарпанными столами, каких я больше нигде не видела. Просидишь полгода за таким столом и запросто обзаведёшься горбом. После трёхчасовых утренних и дневных занятий в классах стояла такая вонища, что выворачивало наизнанку. Подружек моего круга у меня никогда не было – так уж заведено, что редкие состоятельные семьи в Монтиньи посылают своих детей в пансион в главный город департамента, посему в нашей школе учатся немытые, как на подбор, дочки бакалейщиков, крестьян, жандармов, а чаще всего рабочих.
Я же попала в эту странную компанию, потому что не желала покидать Монтиньи: будь со мной мама, она бы и на день меня тут не оставила, но папа в упор ничего не видит и мной не занимается – на уме у него одна работа, ему и в голову не приходит, что мне больше пристало воспитываться в пансионе при монастыре или при каком-нибудь лицее. Кто-кто, а я ему глаз открывать не буду.
Дружила я и дружу с Клер (фамилию не называю), своей сводной сестрой, тихой девочкой с прекрасными нежными глазами и романтической душой. В школе Клер только и делала, что каждую неделю влюблялась (о, платонически!) в нового мальчика. Она и сейчас готова втюриться в первого попавшегося придурка, склонного к поэтическим излияниям, – будь то младший преподаватель или инженер дорожной службы.