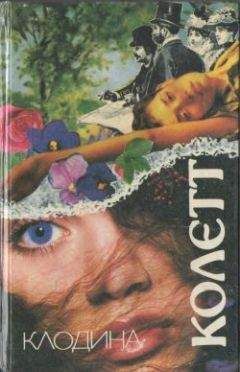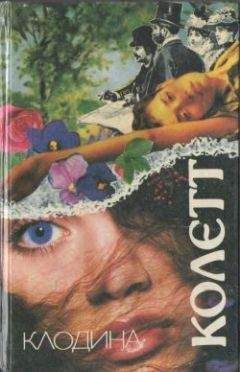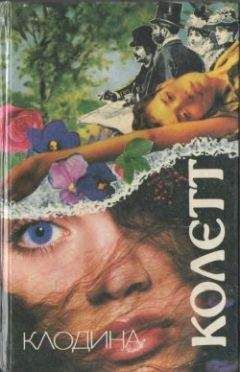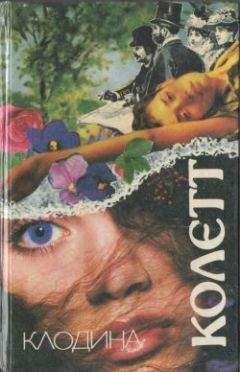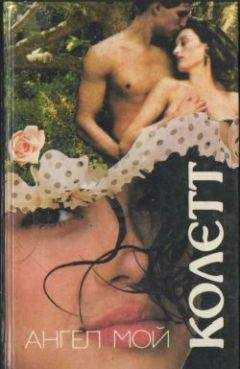Сидони-Габриель Колетт
Клодина уходит…
Он уехал! Уехал! Я повторяю эти слова, я записываю их на бумаге, я должна убедиться, что это действительно произошло, я должна уяснить себе, как велика моя боль. Пока он был здесь, возле меня, я не понимала, что он уезжает. Он действовал, как всегда, очень толково, давал чёткие указания, говорил мне: «Прошу вас, Анни, не забыть…» – и, не договорив фразы, добавлял: «Бог мой, до чего же несчастное у вас лицо. Ваше отчаяние огорчает меня куда больше, чем собственный отъезд». Неужели у меня и впрямь был такой несчастный вид? Тогда я не осознавала ещё всей глубины своего горя, ведь он был рядом со мной.
Всякий раз, когда он произносил эти полные сострадания слова, я содрогалась, замыкалась в себе и робко задавалась вопросом: «Неужели он прав, и горе моё будет так велико, как он говорит? Это ужасно».
Теперь это свершилось: он уехал. Я едва осмеливаюсь двигаться, дышать, жить. Всё так страшно. Никогда такой муж, как мой, не должен расставаться с такой женой, как я.
Мне не было ещё и тринадцати лет, а он уже был моим повелителем. И каким красивым повелителем! Рыжеволосый мальчик с ослепительно белой кожей и восхитительными голубыми глазами. Я ждала наступления его летних каникул у своей бабушки Лажарис, моей единственной родственницы, считала дни. Наконец в одно прекрасное утро бабушка входила в мою белую, похожую на монашескую келью, комнатку (из-за палящего южного солнца стены в наших краях белят известью, и за закрытыми жалюзи они остаются прохладными и чистенькими всё лето) и объявляла: «В комнате Алена все окна настежь открыты, кухарка сама видела, когда возвращалась из города». Говорила она об этом совершенно спокойно, не подозревая, что от этих слов я приходила в необъяснимое волнение, свёртывалась клубочком в своей постели, касаясь коленями подбородка.
Уже в двенадцать лет я любила Алена так, как люблю его сейчас: смутной, непонятной любовью, любовью испуганной и бесхитростной, без тени кокетства. Каждое лето мы около четырёх месяцев жили бок о бок (он учился в Нормандии в школе англосаксонского типа, а там очень длинные каникулы). Он приезжал, беленький, с золотистыми волосами, с крошечными веснушками на щеках под голубыми глазами, и уверенно, с видом победителя, водружающего флаг на стенах неприятельской крепости, открывал калитку, ведущую в наш сад. Я ждала его в своём скромном будничном платьице, не осмеливаясь – из страха, что он заметит, – принарядиться ради него. Он уводил меня с собой, мы вместе читали, играли, его никогда не интересовало моё мнение, он часто подсмеивался надо мной, он просто объявлял: «Вот что мы будем сегодня делать: сперва вы подержите садовую лестницу, а потом подставите фартук, а я буду кидать туда яблоки…» Иногда он обнимал меня за плечи и зло поглядывал по сторонам, словно хотел сказать: «Ну-ка попробуйте отнять её у меня». Ему было тогда шестнадцать лет, а мне – двенадцать.
Случалось – вчера я снова смиренно проделала это, – я опускала на его белую ладонь свою смуглую от загара руку и сокрушённо вздыхала: «Какая я чёрная!» Он гордо улыбался, обнажая в улыбке свои крепкие белые зубы, и отвечал: «Sed formosa.[1] дорогая Анни».
Передо мной фотография тех лет. Я такая же тоненькая и смуглая, как и теперь, с маленькой головкой, чёрные тяжёлые волосы слегка оттягивают её назад, губы сложены в печальную гримаску, как бы говорящую: «Никогда больше не буду», и опушённые очень длинными и очень прямыми ресницами удивительно светлые глаза, такие светлые, что они даже смущают меня, когда я гляжу на себя в зеркало, эти светлые глаза странно смотрятся на моём смуглом лице кабильской девочки. Но раз они сумели понравиться Алену…
Мы вели себя очень скромно, не целовались, не обнимались, но, конечно, тут не было моей вины. Я бы молча, не сказав ни слова, на всё согласилась. Как часто, когда солнце клонилось к закату, голова моя томно кружилась от его близости и сладкого запаха жасмина, а сердце до боли сжималось, я начинала тяжело дышать… Но я не находила нужных слов, чтобы шепнуть Алену: «Ведь этот вечер, и запах жасмина, и лёгкий пушок на моей коже – всё это вы…» Я стискивала зубы и прикрывала ресницами свои бледно-голубые глаза – это было так привычно, что он ни разу ничего не заподозрил, ни разу… Он так же благороден, как и красив.
Когда ему исполнилось двадцать четыре года, он объявил мне: «Теперь мы поженимся», – точно таким же тоном, каким бы сказал одиннадцать лет назад: «А теперь мы будем играть в краснокожих индейцев!»
Он всегда совершенно точно знал, как мне следует поступать, и сейчас, когда я осталась одна, я напоминаю заводную игрушку, ключ от которой потерян. Как я сумею без него отличить добро от зла?
Бедная, бедная маленькая Анни, беззащитная и себялюбивая! Ведь и сейчас, думая о нём, я жалею только себя. Я умоляла его не уезжать… Но была при этом немногословна, ведь он всегда сдержан в проявлении любви и как огня боится бурных излияний: «Возможно, это наследство и не очень велико… у нас с вами достаточно денег, а отправляться в такую даль ради состояния, о котором мало что нам известно… Ален, вы могли бы поручить кому-нибудь…» Он удивлённо поднял брови, и я не договорила свою нескладную фразу, но тут же снова собралась с духом: «А если так, Ален, возьмите меня с собой».
Его полная сострадания улыбка лишила меня всякой надежды: «Взять вас с собой, бедное моё дитя, но вы такая хрупкая… и, не обижайтесь на меня, так плохо чувствуете себя в дороге. Вы полагаете, что сможете легко перенести столь длительное морское путешествие, до самого Буэнос-Айреса? Подумайте также, – этот довод должен, я знаю, вас убедить, – вы можете оказаться мне в тягость».
Я опустила ресницы и снова замкнулась в себе, проклиная в глубине души своего дядю Эчеварри. В молодости он был настоящим сорвиголовой, а лет пятнадцать назад бесследно исчез. И вдруг этот противный сумасброд неожиданно разбогател, а затем вздумал умереть в какой-то там стране, оставив нам в наследство эти… как они называются… estancias,[2] где выращивают быков, «…быков, которых можно продать по шесть тысяч пиастров, Анни». Я даже не знаю, сколько это составляет франков…
Он только сегодня уехал, а я уже заперлась в своей спальне и, спрятавшись там, делаю первые записи в красивой тетради, которую он подарил мне, чтобы я могла вести свой «Дневник его путешествия», и перечитываю его «Распорядок времени», оставленный мне моим властным и любящим супругом.
Июнь – навестить мадам X., мадам 3. и мадам Т. (очень важно).
Только один раз посетить Рено и Клодину – эта супружеская пара слишком сумасбродна, а потому для молодой женщины, чей муж уехал в далёкие края частые встречи с ней нежелательны.