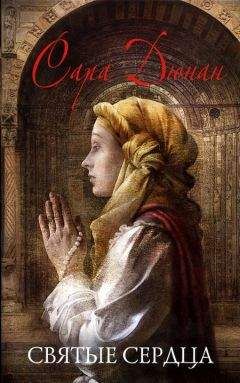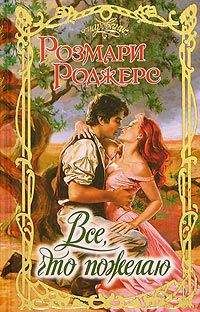— Он неважно себя чувствует, госпожа.
Я кивнула и отпустила его. Неужели отца де Шато серьезно задели во вчерашней схватке, а он ни слова не сказал мне? Впрочем, почему бы он должен говорить со мною о таком. Я женщина, он мужчина и священник; наши миры вращаются далеко друг от друга, лишь изредка соприкасаясь. И тем не менее я беспокоилась за него. Если он получил рану, то сделал это, защищая меня и Мишеля. За это следовало отблагодарить, хотя бы вопросом.
Я вышла из столовой и направилась прямиком в капеллу; юбки домашнего серого платья еле слышно шуршали, когда я поднималась по ступеням. Дверь, громко скрипнув, отворилась. Сегодня солнце не высовывалось из-за туч, и в прохладном сумраке капеллы воздух, казалось, танцует с инеем. Я прошла вдоль стены, остановилась у низкой двери и постучала. Подождала немного, постучала еще раз. Нет ответа.
— Преставился он там, что ли? — пробормотала я и толкнула дверь.
Та открылась, на сей раз без скрипа, впуская меня в узкую длинную комнату, где и вовсе было темно. Окно оказалось закрыто ставнями изнутри, свеча не горела, так что я смутно видела грубый стол, стул рядом с ним, ширму и шкаф в углу, кровать под простым тканым пологом и темную фигуру на ней; Я шагнула дальше, закрыла дверь и поморгала, привыкая к темноте. Между ставнями все-таки оставалась узкая щель, пропускавшая лезвие пасмурного дневного света.
— Отец Реми, — негромко окликнула я.
Фигура пошевелилась.
— Я же просил меня не беспокоить, — очень тихо произнес он. — Ну, раз уж вы здесь, дочь моя, постарайтесь говорить негромко.
— Вы ранены? — спросила я без обиняков.
До меня долетел негромкий смешок.
— Что вы. Нет. У меня мигрень. Единственная слабость, которую я в себе не уничтожил.
— А все остальные уничтожили? — полюбопытствовала я.
— Надеюсь, что да.
Не дожидаясь приглашения, я приблизилась и остановилась в двух шагах от кровати. Отец Реми лежал на спине, прикрытый лоскутным одеялом, на лбу его белела льняная тряпица. Мокрая, наверное. Пахло здесь все тем же ладаном и воском — наверняка тянуло из церкви. Очень достойно: просыпаешься и сразу чуешь, что служишь Господу.
— Часто ли с вами такое случается? — вполголоса произнесла я, стараясь говорить напевно.
У матушки бывали мигрени, и я помню, как мы все ходили на цыпочках мимо ее комнаты в такие дни.
— Иногда. К сожалению.
— Есть ли тошнота?
Он, наверное, удивился, однако ответил:
— Немного.
— Вы пили что-нибудь?
— Нет. Мне нужно просто побыть в тишине и темноте.
Бедный немолодой человек. Как же тяжело, наверное, жить в глуши, прятаться во время приступов головной боли, чтобы сельчане не перестали уважать, и старательно выпрямлять спину. Я покачала головой и двинулась к выходу.
— Поплотнее прикройте дверь, дочь моя.
— Я еще вернусь, — пообещала я, но просьбу выполнила.
В чистой прохладе маленькой кладовой, где мы хранили травы, я провела полчаса, перебирая пучки и нюхая мешочки. Нужные мне травы откладывала в небольшую корзинку, составляя два отдельных сбора. Руки пропахли ромашкой — ее запах всегда цепляется ко мне, стоит соприкоснуться с нею. Мне нравится этот аромат. Еще хороша лаванда и розмарин — морская роса, запах которого вплетается в похороны и в свадебный праздник. Я перебирала сухие стебельки, и мне казалось, что вокруг летний сад под пасмурным теплым небом.
Затем я прошла в кухню, кивнула нашим поварам, уже приступившим к приготовлению обеда, взяла пару медных кастрюлек и сделала два отвара. Отдельно, подумав, заварила и третий. Разлила все по кружкам, поставила на поднос и вновь направилась в капеллу.
Когда дверь отворилась, священник не пошевелился. Я прошла к столу, поставила поднос. Над кружками поднимался пар.
— Не открывайте глаза, отец Реми, — предупредила я. — Придется зажечь свечу.
Он промолчал.
Крохотный огонек осветил стол, и я отставила одну кружку в сторону, чтобы отвар немного остыл, другую же взяла и подошла к кровати.
— Вам придется это выпить, отец Реми.
Он приоткрыл глаза — взгляд мутный, Щеки кажутся еще более впалыми, а нос — острым, словно орлиный клюв.
— Что это?
— Ромашка и немного имбиря.
— Вы разбираетесь в травах? Вы, горожанка?
— Детство и юность я провела в Шампани. Там много людей, которые умеют обращаться с травами, растить их, собирать, сохранять. Пожалуйста, выпейте.
— А говорили, что не слишком милосердны, Маргарита, — пробормотал он, приподнялся и позволил мне придержать его голову.
Я молчала. Пальцы плотно лежат на его гладких волосах, заплетенных в косу, — смешанное, волнующее чувство. Глоток, еще глоток; я вижу, как ходит кадык на его шее, сейчас свободной от тесного воротничка. Пальцы придерживают кружку, рукав грубой серой рубахи съехал к локтю, а на коже — широкий темный рубец. Милосердие? Отец Реми не тот человек, который нуждается в нем. Скорее, небольшая благодарность за вчерашний вечер. Он допил, я убрала кружку и отступила.
— Теперь не двигайтесь. Мне придется немного побыть здесь, чтобы напоить вас еще двумя отварами. Если же мое присутствие утомляет вас, я могу выйти и подождать в капелле.
— Нет, останьтесь, дочь моя. И сядьте. Сядьте, прошу вас.
Я задула свечу — теперь полумрака в комнате хватит, чтобы не перепутать кружки, — взяла тяжелый стул и, поставив его у кровати, села.
Священник лежал, словно покойник, сложив руки на груди. Он больше ничего не говорил, а я не стала продолжать беседу.
Так, в молчании, мы провели более получаса. Я сидела и слушала, как капает время. Иногда я так отчетливо слышу эту капель. Чпок, дзинь, шлеп — словно с сосульки по весне, срываются капли-минуты, падают в натекшую необъятную лужу, растворяются в ней. Время — самый страшный на земле предатель; оно отделяет от нас тех, кто умер, завесой беспамятства: стираются черты, забываются касания рук, запах, одежда. Но при этом время отстаивает любовь и ненависть, делает их благородными, как старые вина, и, откупорив бутылку, можно в полной мере оценить букет.
Замершее в этой маленькой келье, запертое в церковной тишине, время все-таки текло, отмеряя наши со священником жизни. Мне стало казаться, что сейчас есть шанс поймать миг, крепко сжав в ладони, и остановиться. Замрут пылинки в клинке света, остановятся люди в доме, кареты на улицах. Все покроется неподвижностью, как налетом ржавчины, и станет похоже на старую картину, написанную масляной краской. И только я и отец Реми выживем, пройдем по тихим коридорам, выйдем под остановившееся небо. Он прищурится, посмотрит вверх и покачает головой: теперь дождь точно не пойдет.