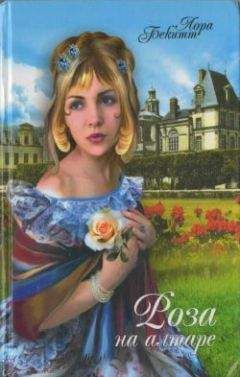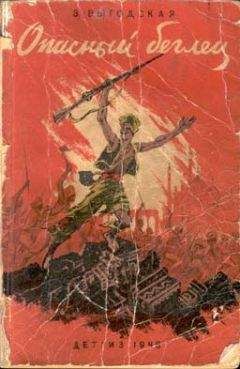– Как вы, мадемуазель Элиана? Разрешите проводить вас наверх?
– Я устала, – произнесла она бесцветным голосом. – Да, я хочу вернуться к себе.
Этьен, бережно поддерживая Элиану, повел ее по лестнице, не сознавая, что в этот момент она точно так же оперлась бы на руку любого человека, прислонилась бы к любому другому плечу.
Несколько дней спустя ранним утром Элиана расчесывала волосы, стоя у раскрытого окна своей комнаты. Она брала за концы и легонько тянула вниз волнистые пряди, проводя по ним серебряным, нестерпимо сверкающим на солнце гребнем, словно нанизывала на них искры яркого света. В окна струился теплый летний воздух, по полу, потолку, стенам и мебели розового дерева гуляли блики, и кругом стояло обманчивое спокойствие, больше напоминающее затишье перед готовой разразиться грозой.
Сегодня девушка поднялась с постели раньше обычного, в тот час, когда городской пейзаж еще тонет в предрассветном тумане, когда едва нарождается утренний свет и просыпаются первые звуки, тонкие, нежные, словно переливы далеких флейт.
С недавних пор она плохо спала, мучимая волнением и тревогой, постоянно вслушивалась и вглядывалась в ночь и все время чего-то ждала. В том же состоянии – Элиана это видела – пребывали отец и мать.
Дезире же на удивление быстро оправилась от потрясения. Возможно, она считала, что ей мало что угрожает.
Сейчас она только что вынесла из гардеробной свежевыглаженное платье и, держа его на весу, рассказывала о том, что случилось в Париже за минувшие дни.
– Говорят, толпа носила по улицам на пиках отрубленные головы, а еще наша кухарка видела, как на столбе вздернули двух скупщиков зерна.
– Пожалуйста, перестань! – воскликнула Элиана. – Не понимаю, почему тебе нравится рассказывать такие вещи!
– Вовсе мне не нравится, – оправдывалась служанка. – Хотя, что касается скупщиков, кухарка говорит, правильно их повесили, – из-за таких, как они, повышаются цены на хлеб и сахар.
Элиана взглянула на девушку с таким возмущением, что та умолкла, но в следующую же секунду, не удержавшись, выпалила:
– Хорошо, я не стану рассказывать, только ведь это не будет означать, что в Париже ничего не происходит!
– Под маской зла не может скрываться истина. Справедливой бывает только добродетель, – услышали они внезапно раздавшийся голос и, разом повернувшись, увидели Филиппа. Встревоженный и удрученный, он стоял на пороге комнаты.
– Доброе утро, папа, – по привычке промолвила Элиана.
– Я пришел поговорить с тобою, дочка, – ответил отец и сделал знак Дезире.
Та положила платье на кровать и, поклонившись, вышла за дверь.
– Я слушаю вас, папа, – сказала Элиана. Отец кивнул.
– Садись. Она села.
– Я даже не знаю, с чего начать, – в замешательстве произнес Филипп, проведя ладонью по лбу, который в этот миг избороздили морщины, – за эти дни произошло слишком многое… Бастилия пала, городское правление переизбрано, граф д'Атруа и принц Конде покинули Версаль… Люди видели трехцветную кокарду на груди короля! – Он говорил так, словно не верил своим словам: – Революция… Жестокость людских сердец – вот что такое Революция! Впрочем, речь не об этом, а о тебе. Сейчас, когда все мы живем в неизвестности, когда будущее представляется нам столь же грозным, сколь и туманным, мне хотелось бы чтобы рядом с тобой, дорогая, было как можно больше надежных, любящих людей, людей, на которых ты могла бы положиться.
Элиана молчала. Она вспоминала недавние события, вспоминала, как отец отправил их с матерью ночью одних, уверенный, что с ними ничего не случится, как Амалия руками счищала грязь с портрета матери Филиппа, Эстеллы де Мельян, и какое у нее было при этом лицо. Девушка подумала о том, что прежде не приходило ей в голову: родители были людьми старого поколения, поколения, привыкшего к незыблемости своего существования; полвека прожившие счастливо, обеспеченно, спокойно, они с трудом воспринимали перемены и не умели приспосабливаться к ним. И Элиана с детства пребывала в полной уверенности в том, что ее судьба в надежных руках, и никогда не предполагала, что ей придется всерьез задумываться о будущем и принимать самостоятельные решения. Но девушка видела: отец и мать так же растеряны, столь же мало смыслят в происходящем, как и она сама.
Это явилось жестоким ударом. Сначала она поняла, как быстро может рухнуть создаваемый веками окружающий мир, потом начала догадываться о том, что такая же участь способна постичь ее собственные, едва сформировавшиеся взгляды на жизнь.
– Я имею в виду твое замужество, – продолжил Филипп, и Элиана встрепенулась от неожиданности. – Этьен де Талуэ добивается твоей руки уже не первый год, а мы все не даем ответа. Воистину такому терпению можно позавидовать, тем более что семья де Талуэ знатнее и богаче нашей. Послушай, дорогая, – он взял девушку за руку, – а ведь ты жила бы с ним так же спокойно, как Шарлотта с Полем, и он сумел бы позаботиться о тебе.
Элиана опустила черные ресницы. Она не собиралась выходить замуж ради того, чтобы жить «спокойно», и вообще не понимала, как можно чувствовать себя спокойно рядом с нелюбимым человеком. Впрочем, во времена молодости ее родителей (а чаще всего – сейчас!) брак расценивали, скорее, как деловое предприятие, а семейные заботы, включавшие ведение дома и рождение наследников, принимались каждой женщиной как непременная пожизненная обязанность.
Девушка вспомнила Максимилиана. Он знал, что ее ждет, и тем не менее уехал. Он бросил ее на произвол судьбы!
С ним ей никогда не бывать, а с другим человеком она все равно не изведает счастья любви, так какое имеет значение, кто станет ее мужем, Этьен или кто-то еще!
И все же Элиана не сумела заставить себя сказать отцу «да».
– Я подумаю, папа.
Филипп с облегчением вздохнул.
– Мама тоже советует тебе согласиться, – прибавил он. – Мы могли бы сыграть свадьбу нынешней осенью. Будем разумны, и Господь не оставит нас в трудный час. Нужно держаться всем вместе, дорогая, это прибавит нам мужества, надежды и сил. Поверь, я желаю тебе только счастья!
Венчание было назначено на сентябрь, и началась неспешная подготовка к свадьбе, что отнимало большую часть времени и сил. По стране продолжала идти волна мятежей, вся власть фактически перешла в руки либерально-монархической буржуазии, и Франция постепенно меняла свой облик, но, как ни странно, де Мельяны чувствовали себя куда спокойнее, чем в первые дни Революции: возможно, оттого, что происходящее непосредственно их не касалось. Вновь выросли цены на продовольствие, правительство отменило кое-какие налоговые льготы, и все же положение родителей Элианы почти не пострадало. Конечно, невозможно было привыкнуть к звукам стрельбы и сообщениям о том, как народ расправляется с теми, кого считает непосредственными виновниками своих бедствий или, напротив, – о том, как национальная гвардия разгоняет народ, и все же ощущения притупились, и никто не собирался впадать в панику.