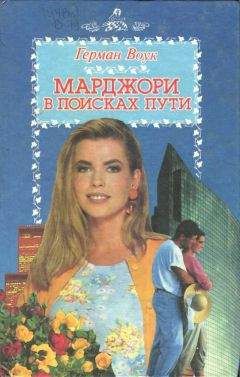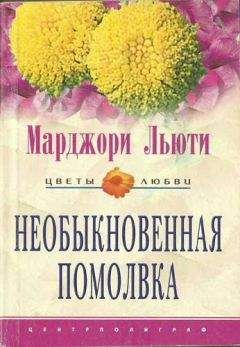Он оказался женат на Маше Зеленко, той самой девушке, которая целую вечность тому назад привела Марджори в общий зал «Южного ветра». Маша, которую я помнил как полную медлительную девушку, сохранив свой слегка сонный вид, превратилась в крупную женщину, яркую крашеную блондинку, одетую совершенно ужасно для загородного дома: ее дорогие наряды смотрятся абсолютно не к месту среди травы и деревьев, ее громкий трескучий голос напоминает мне пародии на манхэттенские разговоры на бегу. А венчают все это вытянутое изможденное темное лицо и большой растянутый в улыбке рот, полный зубов, которые постоянно у вас перед глазами. «Выпейте этого виски, у него двадцать четыре года выдержки. Вы пишете от руки или на машинке?» И множество вопросов о личной жизни звезд Голливуда, знакомых мне. Такие вот дела. Бездетная. Вместе с ними живут ее родители и прислуга.
Она едва могла дождаться момента, чтобы выложить мне, что Марджори живет в Мамаронеке, только в пяти милях от их дома. Когда я изобразил слабый интерес, она буквально приволокла меня к телефону, зажав борцовским захватом, накрутила номер, протянула мне трубку и ушла, закрыв за собой дверь в библиотеку под колоссальной аркой и оделив на прощание каннибальски-зубастой улыбкой.
Трубку взял мальчик. Судя по голосу, ему было лет десять.
— Да. Алло?
Я попросил его позвать к телефону его мать. Он положил трубку и пробурчал:
— Ma, какой-то мужчина просит тебя.
Теперь трубку взяла она.
— Алло?
— Марджори?
— Да. А кто говорит?
Ее голос звучал совершенно как прежде: мягко и слегка хрипловато. Я немного забыл этот низкий тембр. По телефону голос Марджори отдавал в контральто, хотя, разговаривая «вживую», это не замечалось. И еще в ее голосе было легкое сомнение — кто же с ней на самом деле говорит? Эта слегка старомодная манера разговаривать была для меня олицетворением женственности, и она ее сохранила.
Когда я назвал ей свое имя и место, откуда я звоню, пауза слегка затянулась. Затем я услышал:
— Привет, Уолли. Как чудесно услышать тебя.
Никакого взрыва восторга, ни даже некоторого удивления, теплый и мягкий ответ. Разумеется, сказала она, я должен приехать к ней как можно скорее, она ждет меня с нетерпением. Ее дочь тоже будет в восторге от сценариста, поскольку обожает театр.
Меня отвезла к ней Маша в желтом «кадиллаке» длиной с целый дом. Мы свернули с шоссе на дорожку к красивому старому белому дому с табличкой у ограды, на ней стеклянными буками было набрано: Шварц. На террасе в кресле сидела седоволосая женщина — я решил было, что это пришла с воскресным визитом одна из бабушек. Мы вышли из машины и подошли к террасе, и я едва пришел в себя от удивления и даже шока, когда эта седая леди оказалась Марджори. Сказать по правде, она куда больше была похожа на миссис Шварц, чем на Марджори Моргенштерн, которую я в последний раз видел на шикарной свадьбе полтора десятка лет назад.
Несмотря на седину (явно преждевременную, ей нет и сорока лет), она все еще привлекательна, стройна, с приятным лицом и мягкой манерой поведения, и в ней остается нечто неуловимое от Марджори прошлых лет. У нее есть дочь четырнадцати лет Дебора. Она куда больше похожа на девушку, которую я знал, чем сама миссис Шварц. Этого и следовало ожидать, я думаю. Все равно несколько не по себе, когда твоя первая любовь оказывается седоволосой матерью четырех детей. У меня не выходила из головы мысль, насколько Марджори была мудра, когда отказала мне в те давние дни. Мужчина тридцати девяти лет не слишком хорошо подходит сорокалетней женщине. Пройдя несколько романов и разводов, я все еще чувствовал себя относительно молодым человеком, лишь собирающимся остепениться. Она пошутила насчет своих седых волос, но в этой шутке не было горечи, а лишь легкая умиротворенная печаль сожаления, если это имеет какой-либо смысл.
Она совершенно явно была умиротворенной. Я не мог иначе понять ее взгляд, которым она оделила своего мужа, вернувшегося с двумя сыновьями: в старом тренировочном костюме он гонял с ними мяч; Мардж поцеловала его, потного и грязного, и даже не поцеловала, а просто коснулась лицом его плеча. Он — добродушный мужчина под пятьдесят, широкоплечий, немного располневший, с зачесанными на макушку седеющими волосами. Он повел себя очень тактично в этой ситуации, если можно назвать ситуацией то, что он обнаружил свою жену в компании Маши и меня. Он был любезен, даже обаятелен; ни намека на оскорбленное самолюбие, никаких язвительных вопросов; наоборот, искренняя приветливость, приглашение заходить на коктейль, перемежающиеся комплиментами моим пьесам. Я пребывал в его обществе не слишком долго, поскольку он ушел мыться, переодеваться, а потом ребята утащили его с собой на берег моря смотреть на фейерверк. Ребята выглядели совершенно обычными детьми лет одиннадцати и девяти, если я не ошибаюсь. Пока они не ушли на берег, Марджори суетилась вокруг них, как это делает каждая мать. Ей пришлось остаться дома, поскольку их прислуга ушла, а у нее дочь-подросток. Так получилось, что у меня оказалась возможность поговорить с ней. Несколько раз я порывался уйти (миссис Михельсон уехала несколько раньше, к моему облегчению, потому что к ней должны были прийти гости на коктейль), но Марджори настояла, чтобы я остался. Позднее мне стало ясно, что заставило ее это сделать. А тогда я мог только догадываться. Но я трясся от волнения, как последний идиот, и я остался.
Мы с ней выпили несколько коктейлей. Возможно, иначе она не могла бы говорить. Поначалу она чувствовала себя в моем присутствии неловко, даже немного боялась, хотя и была любезна. Все это становилось довольно любопытным. Она немного повоевала с дочерью, настаивая, чтобы та перед фейерверком сначала позанималась на пианино, и выиграла этот бой. Девочка что-то пробурчала про себя и ушла в дом. Я тут же вспомнил, как мать Марджори в былые времена умела настоять на своем; сама Марджори унаследовала от нее такую же сдобренную юмором твердость.
Мы расположились на поляне перед домом в креслах, попивая коктейли и глядя на закат. Она расспрашивала меня о Бродвее и Голливуде. Но я должен сказать, ее вопросы отличались от почти религиозного отношения к таким вещам миссис Михельсон. Я чувствовал, что ей интересно все обо мне, и откровенно отвечал на ее вопросы. Ее ответные реплики звучали разумно и по существу, какими они были всегда. Она по достоинству оценивала мои пьесы, особенно порадовало меня то, что больше всего ей понравилась «Мягкая лужайка». Мне кажется, автор всегда испытывает слабость к своим провалившимся вещам, но совершенно верно и то, как заметила она, что в этой пьесе я в первый раз вышел за рамки чисто механического фарса и чего-то достиг.