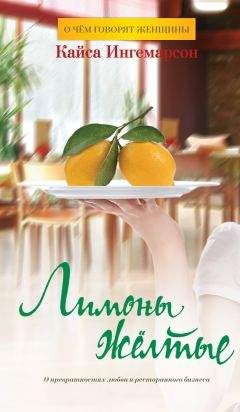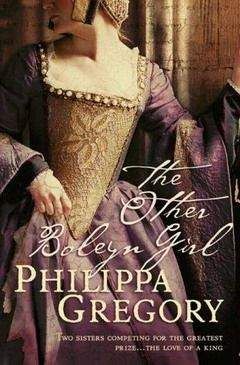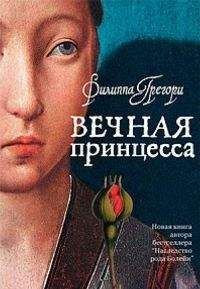А деревня была пронизана атмосферой недоверчивости и подозрительности. Одну знахарку схватили, отвезли в Болдрон, расположенный в четырех милях, и обвинили в порче скота. Улики против нее были очевидны. Соседи клялись, что она бежала по реке и ее ноги мелькали над водой, оставаясь совершенно сухими. Кто-то видел, как она прошептала что-то на ухо лошади, а потом лошадь охромела. Одна женщина сообщила, что на Каслтонском рынке поспорила с обвиняемой из-за куска копченой свинины, и с тех пор у нее болит рука, и она боится, что рука загниет и отвалится. Какой-то крестьянин показал под присягой, что в туман вез эту знахарку по Болдрон-лейн, она отругала его, так лошадь испугалась и понесла, и он упал с телеги. Мальчишка из деревни заверял, что знахарка летала по воздуху и беседовала с голубями на господской голубятне. Все окрестные жители свидетельствовали против нее; судебное разбирательство продолжалось много дней.
— Все это вздор и чепуха, — заявила Элис, вернувшись из Боуэса со свежими новостями. — Такое может случиться с каждым, детский лепет какой-то. Все словно с ума посходили. Слушают кого попало, любую глупость. Всякий может оклеветать ее.
Лицо Моры помрачнело.
— Не нравится мне все это, — сердито произнесла она.
Вывалив из мешка покупки прямо на пол возле очага, Элис бросила три жирных кусочка бекона в похлебку, кипящую в трехногом котелке.
— Не нравится мне все это, — повторила Мора. — Я уже сталкивалась с подобным. Иногда в это время года, иногда летом. Всякий раз, когда людей что-то тревожит… или когда им нечего делать, некуда девать злобу.
— Ради чего они это затеяли? — встревоженно спросила Элис.
— Ради забавы, — пояснила Мора. — Время скучное, осень. А этот сентябрь еще и холодный. Вот они сидят у огня и рассказывают друг другу страшные истории. Все болеют, у кого простуда, у кого малярия, лекарства не помогают. Надвигается зима, а с ней голод. Надо найти виновного. Им нравится собираться толпой, кричать и браниться. В такие минуты толпа подобна зверю с сотней глоток и сотней бьющихся сердец, а в головах — ни единой мысли. Только страсти.
— Что сделают с этой несчастной?
Мора сплюнула и попала точно в огонь.
— Уже делают, — уточнила она. — Для начала обшарили с ног до головы, нашли метки, что она кормила грудью дьявола, и выжгли их раскаленной кочергой. Если эти раны загноятся, значит, она ведьма. Тогда ей свяжут руки и ноги и бросят в Грету. Если не утонет, значит, ведьма. Могут заставить ее положить руку в пылающий кузнечный горн и поклясться, что она невиновна. Могут связать и оставить в пустоши на всю ночь, а потом посмотреть, спасет ли ее дьявол. Будут забавляться с ней до тех пор, пока не натешатся.
Девушка подала Море миску с похлебкой и краюху хлеба.
— А потом?
— На деревенском лугу установят столб, — ответила Мора, — священник прочтет над ней молитву, и кто-нибудь — скорей всего, кузнец — удавит ее, затем ее похоронят на перекрестке дорог. После поищут другую и еще одну. Пока что-нибудь не случится, какое-нибудь торжество или праздник, и у них не появится новое развлечение. На деревню как будто сошла зараза всеобщего помешательства. Для нас это нехорошее время. Пока болдронская знахарка не умрет и все про нее не забудут, я в Боуэс ни ногой.
— А где мы достанем муку? — поинтересовалась Элис. — И сыр?
— Сходишь сама, — хладнокровно произнесла Мора. — Или недельку-другую перебьемся без этого.
Элис устремила на старуху ледяной взгляд.
— Перебьемся, — смиренно промолвила девушка, хотя в животе у нее урчало от голода.
В конце октября неожиданно настали сильные холода, по утрам все было покрыто инеем, лужи замерзли. На зиму Элис пришлось отказаться от мытья тела. Вода в реке поднялась, бушевали большие волны, меж белых камней крутились коричневые водовороты, а сами камни к утру покрывались скользкой коркой льда. Каждый день Элис притаскивала полное ведро воды для приготовления пищи; на воду для мытья у нее не было ни времени, ни сил. Ее отросшие волосы кишели вшами, черное монашеское платье пропахло потом и загрубело. Между пальцами она частенько отлавливала блох и давила их крошечные тельца зазубренными ногтями большого и указательного пальцев, не испытывая при этом ни смущения, ни стыда. Она привыкла к вони и грязи. Когда она выносила треснувший ночной горшок в выгребную яму, то уже не отворачивалась, борясь с подступающей к горлу тошнотой. Дерьмо, как Морино, так и ее собственное, куриный помет и объедки скапливались в выгребной яме; Элис разносила все это по грядкам и перекапывала, совершенно не замечая смрада.
Выстиранное белое белье, благоухание трав в кладовой и цветов на алтаре аббатства — все это растворилось в прошлом. Иногда Элис казалось, что Мора права: она действительно никогда не была в аббатстве, никогда не была монахиней. Но по ночам девушка просыпалась с мокрым от соленых слез лицом, ей снова снилась матушка аббатиса и та жизнь, которую она потеряла.
Ей все не удавалось забыть, как приятно быть чистой. Ее вечно голодный растущий организм постоянно требовал пищи, которую она вкушала в аббатстве. Всю осень Мора и Элис питались жидкой овощной похлебкой, лишь изредка приправленной ломтиком бекона или свиного сала, плавающего в золотистых капельках жира. Иногда им перепадал кусочек сыра. Каждый день у них был черный ржаной хлеб из муки грубого помола, и в тесте часто попадались крупные неперемолотые зерна. Случалось, от благодарной жены какого-нибудь крестьянина им доставались потроха недавно заколотой свиньи. Порой лакомились и кроликом. Мора ставила силки, а Элис — сети в реке. Две курицы, что жили вместе с ними в доме и скудно питались объедками, каждые пару дней неслись, так что хозяйкам перепадали яйца. Но по большей части на завтрак была жидкая овсянка, а потом голодали до самого вечера, до обеда в виде похлебки с хлебом, а иногда — с кусочком сыра или мяса.
Элис хорошо помнила вкус тушеного карпа, выловленного в монастырском пруду. В дни поста они ели лососину, форель или морскую рыбу, специально привозимую с побережья. Запах жареной говядины, пышные запеканки, теплая, густая и питательная овсяная каша, поданная ранним утром после молитвы с капелькой монастырского меда, политая желтыми, как масло, сливками, горячий эль перед сном, а по праздникам — марципан, жареный миндаль и засахаренные фрукты. Элис тосковала по теплому ароматному вину с пряностями, подаваемому после праздничного обеда, оленине в горячем соусе на портвейне, по тушеному зайцу с овощами, поджаренными на сливочном масле, по густому запаху свежих вишен. Иногда Мора криком будила ее посреди ночи и, сонно зевая, ворчала: «Ты опять стонешь, тебе опять снится еда. Упражняйся лучше в умерщвлении плоти, мой ангелочек». И Элис чувствовала, что рот ее полон слюны, ей действительно снился обед в тихой трапезной, голос монахини, читающей вслух Святое Писание, матушка Хильдебранда во главе стола, которая протягивала вперед руки, благословляла еду и благодарила Господа за хлеб насущный, а иногда окидывала взглядом стол и убеждалась, что у малышки Элис всего вдоволь. «Вдоволь», — вожделенно повторяла Элис. Ей казалось, она больше никогда не узнает, что такое сытый желудок. Чувство голода преследовало ее везде, личико похудело и осунулось.