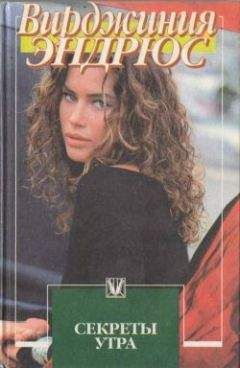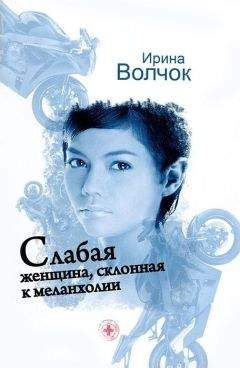Вирджиния вздохнула, отнесла на место садовый нож, повесив его в кладовке именно на тот гвоздик, с которого и сняла. Она убрала обрезанные ветки и подмела листья. Губы девушки дрогнули, когда она посмотрела на свежесрезанный куст. Растение имело удивительное сходство с трясущейся, дрожащей прежней хозяйкой, маленькой кузиной Джорджиной.
«Я, действительно, сделала из него уродца», — подумала Вирджиния.
Но она не чувствовала вины за сделанное, ей было только жаль, что она обидела мать. Пока ее не простят Вирджиния так и будет страдать по этому поводу. Миссис Джексон принадлежала к той породе женщин, чей гнев ощущался по всему дому. От этого гнева не спасали ни стены, ни двери.
— Сходи в город и получи почту, — сказала кузина Мелисандра, едва Вирджиния вошла в дом. — Я не могу пойти, очень устала и совершенно выдохлась этой весной. Я бы попросила тебя зайти в аптеку и купить мне флакон горькой настойки Каплера. Нет ничего лучше, чем настойка Каплера для восстановления сил. Кузен Джефсон говорит, что лучше всего помогают таблетки «Каплер Пёпл», но я знаю лучшее средство. Мой бедный дорогой муж принимал горькую настойку Каплера до последнего дня своей жизни, до самой смерти. Но не вздумай отдавать им больше девяноста центов. В таком случае я лучше куплю настойку в Уорте. А что ты сказала своей милой матушке? Ты что, совсем перестала соображать? Вурж, ведь у тебя одна-единственная мать.
«Мне и одной слишком достаточно», — подумала Вирджиния, шагая в город.
Девушка купила горькую настойку для кузины Мелисандры, потом пошла на почту и спросила корреспонденцию в общем отделе. У ее матери не было собственного почтового ящика. Сама Вирджиния вообще не получала никакой почты, кроме «Кристиан Таймс», единственного журнала, который выписывала семья. Письма к ним почти не приходили. Но Вирджиния очень любила стоять у окошка на почте и наблюдать за мистером Кэвью, седобородым старым клерком, похожим на Деда Мороза, вручающим письма счастливым людям, к которым они приходят. Мистер Кэвью делал это с отрешенным, безразличным, юпитероподобным видом, как будто ему было абсолютно неважно, невероятную радость или неизбывное горе приносят письма своим адресатам. Письма очаровывали Вирджинию, может быть, потому, что она редко получала их. В ее Голубом Замке существовали волнующие послания, перевязанные шелковыми ленточками и запечатанные печатью. Их всегда приносили пажи, одетые в ливрею из золота и голубизны. Но в реальной жизни единственными письмами, поступавшими в ее адрес, были случайные, небрежные записки от родственников или проспекты рекламных агентств.
И естественно, Вирджиния была несказанно удивлена, когда мистер Кэвью, еще более, чем обычно, похожий в этот день на Юпитера, протянул ей письмо. Да, оно было адресовано именно ей, подписанное твердой рукой: «Мисс Вирджинии Джексон, Элм-стрит, Хайворт». На почтовой марке значился Нью-Йорк. Вирджиния мгновенно схватила письмо, ее дыхание участилось. Нью-Йорк! Письмо, должно быть, от доктора Стинера. Он все-таки вспомнил о ней.
Вирджиния встретила дядю Роберта, входившего в тот момент, когда она выходила с почты, счастливая от того, что в сумке у нее лежало письмо на ее имя.
— Ну, — сказал дядя Роберт. — В чем разница между ослом и почтовой маркой?
— Не знаю. И в чем же? — покорно спросила Вирджиния.
— One you lick with a stick and the other you stick with a lick[1].
Дядя Роберт закрыл дверь, чрезвычайно довольный собой.
Кузина Мелисандра погрузилась в «Таймс», когда Вирджиния вернулась домой, и ей совсем не пришло в голову спросить, не было ли каких-либо писем. Миссис Джексон спросила бы об этом непременно, но в настоящий момент губы ее были плотно сжаты. Вирджиния была даже рада этому. Если бы мать спросила о письмах, девушка вынуждена была бы признаться, что они были. После этого пришлось бы отдать письмо матери и кузине Мелисандре, они бы прочитали, и все бы раскрылось.
Сердце Вирджинии бешено забилось, когда она поднималась к себе наверх, поэтому она несколько минут просто просидела у окна, прежде чем раскрыть письмо. Она чувствовала себя виноватой и лживой. Никогда прежде Вирджиния не скрывала писем от матери. Каждое письмо, которое девушка писала или получала, было прочитано миссис Джексон. И это было неважно. Вирджинии было нечего скрывать. А сейчас это имело значение. Она не могла никому позволить увидеть это письмо. Пальцы девушки тряслись от сознания, что она совершает дурной поступок и ведет себя неподобающим для дочери образом, когда она вскрывала письмо. Может быть, она волновалась еще и от дурного предчувствия. Девушка была определенно уверена, что с ее сердцем ничего серьезного, но кто знает.
Письмо доктора Стинера было очень похоже на него самого: простое, прямое, резкое, без лишних слов. Доктор Стинер никогда не городил околесицу. «Дорогая мисс Джексон…» — и далее следовала страница предельно ясного повествования. Казалось, Вирджиния с ходу прочла письмо и опустила его на колени. Лицо ее побледнело, как у привидения.
Доктор Стинер сообщил ей, что у нее очень опасная и фатальная форма сердечного заболевания, ангина пекторис, очевидно осложненная расширением артерий. Доктор описывал, как протекает заболевание и чем заканчивается. Он сообщил, без всяких успокоительных обмолвок, что ничего нельзя сделать в этом случае. Если Вирджиния будет внимательна к себе, то, может быть, проживет с год. Но она также может умереть в любой момент. Доктор Стинер не очень утруждал себя подбором слов. Вирджинии предписывалось избегать сильных волнений и расстройств, кушать и пить нужно было весьма умеренно, не бегать, подниматься по лестницам и вверх по наклонной местности с перерывами. Любой неожиданный шок или стресс может оказаться смертельным. Доктор выписал лекарство, которое нужно было все время носить с собой и принимать сразу же, как только ощущались первые признаки приступа. И, конечно, он был вечно преданный ей доктор Стинер.
Вирджиния долго сидела у окна. На улице был мир, залитый светом весеннего полудня: небо чарующе голубое, воздух ароматный и свободный, нежная, легкая, голубая дымка нависала над улицей. Чуть подальше у железнодорожной станции группа молоденьких девочек ждала поезд. Вирджиния слышала их веселый смех, болтовню и шутки. А поезд громыхал и громыхал. Но во всем этом не было реальности. Реальности больше не существовало ни в чем, кроме того, что Вирджинии оставался только один год жизни.
Когда девушка устала сидеть у окна, она отошла и прилегла на кровать, уставившись в растрескавшийся, бесцветный потолок. Удивительное оцепенение пришло к ней после постигшего удара. Девушка не чувствовала ничего, кроме удивления и непонимания. Но верх брало то, что доктор Стинер знал свое дело и что она, Вирджиния Джексон, так и не начавшая жить, должна была умереть.