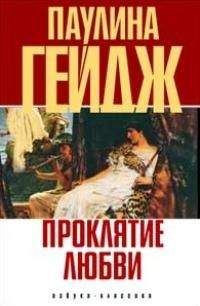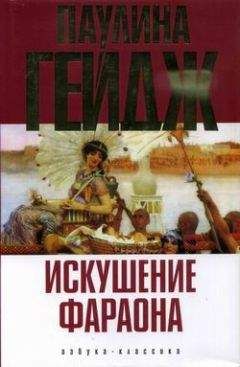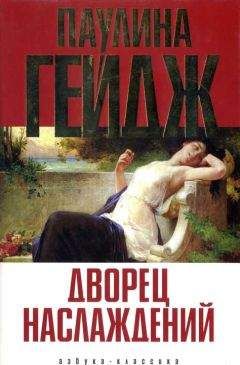Внутри сумрачного лабиринта «Величия Атона» – личных покоев фараона – еще висело знойное дыхание Ра, зловонное и безжалостное. Ее эскорт остановился. Стражники открыли двери, вестник объявил о ее прибытии, и она вошла в опочивальню фараона.
Он лежал, обложенный подушками, рот его был полуоткрыт, отекшие глаза болезненно щурились даже от того тусклого света, что давали несколько расставленных вокруг него алебастровых ламп. Мошкара, жужжа, роилась над нагим телом, покрытым испариной, но он, казалось, не замечал этого. Рядом стоял распечатанный кувшин с вином, туг же валялась сломанная и раскрошенная печать, на полу стояла пустая чаша. Тейе подбежала к ложу и поклонилась.
– Где твой носитель метелки, Гор? – спросила она с тревогой, вытаскивая метелку из-под простыней и начиная осторожно разгонять мошкару.
Он улыбнулся и пошевельнулся при легком касании конского волоса, мошкара взвилась злобным облаком.
– Мог ли я лишить насекомых Египта права отпраздновать уход их бога? – шутливо отозвался он хриплым голосом. – Они такие же хищные и ненасытные, как и прочие мои подданные. Правда, моя Тейе, я не замечал их. Я отослал слуг несколько часов назад. Меня раздражают даже их шаги.
– Я прикажу принести воду, свежее белье и, может быть, фрукты? – Она оглядела комнату, но мальчика нигде не было видно.
– Нет. Прежде чем ты уйдешь… – оборвал он ее, не дав договорить, и вздохнул.
Тейе ждала, что он скажет, для чего посылал за ней. Через некоторое время он перевернулся на живот, зарывшись своей бритой головой в подушки.
– Тут масло на блюде, где-то на столе, – сказал он глухо. – Сделай мне массаж, Тейе. Не могу сегодня выносить прикосновения раба.
Повинуясь, она сняла кольца, скинула халат, взяла блюдо, взобралась на ложе и встала на колени рядом с ним. Налив немного масла на ладонь, она размазала его по широкой спине и принялась втирать в податливую плоть, разминая и поглаживая, ощущая под пальцами сведенные болью мышцы. Долгое время тишину нарушало только тяжелое дыхание фараона. Тейе вдыхала сладковатый, густой аромат масла, возвращавший ей память о тех ночах, которые прошлое уже забальзамировало, и, будто читая ее мысли, он сказал:
– Никто еще не делал этого так, как ты, Тейе. Помнишь наш первый год, когда я посылал за тобой каждую ночь? Сегодня воспоминания о тех временах переполняют меня. На некоторое время я забыл о тебе, твое тело перестало удивлять меня, и я обратился к другим, но сейчас я снова страстно желаю тебя.
Его слова озадачили и растрогали ее. Хотя спина начала болеть, а запястья ныли, она продолжала скользить руками вверх к его массивным плечам, потом вниз по позвоночнику, она смотрела на поблескивающее теплое тело, на такие знакомые, четкие линии.
– Малышка царевна сделала все, чтобы угодить мне, – продолжил он, помолчав немного, и при звуке странных, заискивающих интонаций в его голосе сердце Тейе забилось сильнее. – Она пленительно танцевала для меня без одежды, на ней были только драгоценные украшения. Она пела для меня песни своей страны. Она целовала и ласкала меня, а потом ушла, унося лишь пустоту в своем лоне и басню о моем бессилии, чтобы разнести ее по всему гарему. Я пытался взять ее, но сегодня я, как Осирис, изувечен и разрублен на куски. Ее молодость и невинность не возбудили меня. И от внезапного страха меня прошиб пот.
Он, кряхтя, приподнялся и взглянул ей в лицо. В темных глазах мужа она прочла то, чего никогда не видела прежде: беззащитность жертвенного зверя, добивающегося ее благосклонности. Осознание своей власти над ним на секунду захлестнуло ее горячей волной, но скоро отступило, оставляя после себя только боль сострадания.
– Она воспитывалась в царской семье, – мягко ответила Тейе. – Она должна знать, что в гареме существуют негласные правила. Здесь нельзя безнаказанно болтать обо всем, что взбредет в голову, и она будет придерживаться этих правил. Хочешь, я разыщу мальчишку?
В его глазах вспыхнула сардоническая усмешка.
– Нет. На сегодня с меня довольно цветения юности. У тебя волшебные руки, Тейе. Мне стало лучше.
Его слова означали, что он отпускает ее, но она знала, что это не так. Он ждал, молчаливо моля о спасении, и она с улыбкой склонилась над ним.
На несколько месяцев воздух во дворце загустел от мрачного ожидания, потому что, несмотря на утешительные слова Тейе, прошло совсем немного времени, и все придворные узнали, что Аменхотеп оказался неспособен выполнить супружеские обязанности по отношению к маленькой митаннийской царевне. Этот факт сильнее всего остального укрепил их в мысли, что богу осталось жить недолго, потому что прежде о его любовной ненасытности ходили легенды. И хотя дни Аменхотепа были наполнены мучительной болью и лихорадкой, зловонными отварами озабоченных врачевателей и монотонным завыванием магов, он цеплялся за жизнь и находил в себе силы воспринимать медленное умирание своего тела с черным юмором. За Тадухеппой он больше не посылал, и она замкнулась в горделивом молчании, отнеся его пренебрежение на счет собственного несовершенства. Ночи фараон проводил с мальчишкой, женой или с младшей женой-дочерью. Начался паводок, и живительная влага вновь полилась на выжженные поля, размягчая и взрыхляя плодородную почву. Но на землю вернулись и болезни: в гареме, в лачугах городских бедняков, в хозяйствах феллахов – всюду слышались причитания плакальщиц, всюду звучали рыдания по усопшим.
Наконец стали приходить письма из Мемфиса. Уперев подбородок в накрашенные ладони и поглядывая на свои золотые сандалии, Тейе сидела рядом с пустовавшим троном фараона и внимательно слушала писца, который зачитывал ей свитки. Послания от сына были краткими, льстивыми и утешительными. Он здоров и надеется, что его вечно прекрасная мать тоже здорова. Он полюбил разноликую жизнь Мемфиса, особенно разнообразие духовных верований, которое нашел здесь. Он со всей серьезностью относится к службе в храме Птаха. Тейе часто казалось, что за его словами она ощущает странное одиночество, тоску по привычному окружению гарема, но она считала естественным, что молодой человек, впервые за девятнадцать лет вдохнувший глоток свободы, порой тоскует по защищенности и безопасности прежнего убежища. И при этом она не могла не обратить внимания на тот факт, что Аменхотеп никогда не интересовался здоровьем отца. Если не считать слов, адресованных самой Тейе, и изредка вопросов о Нефертити, от сухого желтого папируса повеяло человеческим теплом лишь однажды, когда он написал о Хоремхебе. Аменхотеп с восторгом рассказывал, как добр к нему молодой военачальник. Тейе находила эти восторженные откровения трогательными, но и тревожащими, ибо о других друзьях сын не упоминал.