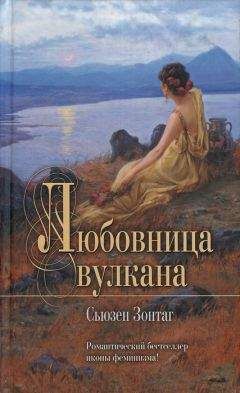Не нашлось никого — только ребенок, — чтобы ухаживать за дурно пахнущей, плаксивой, храпящей, умирающей женщиной, никого, кроме моей дочки, чтобы выносить горшки и стирать простыни. Я бывала с ней очень резка, а она всегда была очень почтительна.
В самом конце я попросила дочь привести священника из церкви Святого Пьера, чтобы он исполнил положенный ритуал. И только тогда, впервые, забитое создание (которое потом вырастет, выйдет замуж за викария и будет вспоминать последние ужасные полгода во Франции с сострадательным стоицизмом) попыталось воспротивиться моей воле.
Ты не откажешь мне в последнем утешении, — вскричала я. — Ты не посмеешь!
Я пойду за священником, если вы скажете, кто моя мать, — ответила бедная девочка.
Твоя мать, — просипела я, — несчастная женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Я не могу обмануть ее доверие.
Она ждала. Я закрыла глаза. Она коснулась моей руки. Я отодвинула руку. Я стала напевать про себя. Я чувствовала кислый запах рвоты, стекающей сбоку изо рта. Ничто, даже угроза неминуемо лишиться благодати небес, не могло меня заставить рассказать ей правду. Почему я должна была утешать ее, когда не нашлось никого, чтобы утешить меня? Я слышала, как закрылась дверь. Она ушла за священником.
Из окна своей камеры я видела в заливе их корабль.
Мы с друзьями уже сели на транспортное судно, которое должно было отплыть в Тулон, когда, 24 июня, прибыли они и аннулировали договор, подписанный кардиналом Монстром: нас выволокли с корабля и увезли в Викарию. Мне, одной из немногих женщин в тюрьме, выделили отдельную камеру с осклизлыми стенами, десять шагов на семь, с матрасом и без цепей. Двое моих друзей провели лето в железных ошейниках, прикованные к стене, других затолкали по пять человек в одну камеру, и они спали на полу, спина к спине. Некоторым из нас пришлось пройти через фарс якобы судебных слушаний, но наша вина была установлена заранее.
День за днем я наблюдала за качающимся на волнах черным кораблем. Я ни за что не послала бы им письма, испачканного пятнами слез или потными руками. Я не стала бы молить за свою жизнь.
Ночью я видела фонари и белые мачты, мерцающие в лунном свете. Иногда я смотрела на корабль так долго, что начинало казаться, будто покачивающиеся мачты стоят на месте, а тюрьма плывет.
Я видела снующие туда-сюда лодчонки с провиантом, вином и музыкантами для их вечерних развлечений. До меня доносились крики и смех. Я вспоминала многие роскошные пиршества за их столом. Вспоминала ассамблеи, которыми славились британский посол и его супруга. На некоторых приемах, где она показывала свои Позиции, я читала свои поэмы. В камере я сочинила два стихотворения на неаполитанском языке и — на латыни — в память о моем учителе Вергилии: элегию голубому небу и чайкам.
Как чудесно быть кораблем, разрезающим плотные воды летнего моря. Как чудесно быть чайкой, парящей в голубом летнем небе. В своих детских фантазиях я часто наделяла себя умением летать. Но в тюрьме тело обретает особенную тяжесть. Из-за скудной тюремной пищи — в камеру два раза в день приносили только хлеб и суп — я сильно исхудала, но как никогда чувствовала себя прикованной к земле. Дух желал воспарить, но при всей нынешней легкости я не могла взлететь даже в мечтах. Я могла представить себе только один полет: камнем — вдоль борта корабля, их корабля, — прямиком в море.
На заре 6 августа, подойдя к окну, я увидела, что флагман ушел. Они закончили работу, санкционировали, придали законность злодейским убийствам неаполитанских патриотов и отплыли обратно в Палермо. Казням предстояло продолжаться до следующей весны.
Меня казнили две недели спустя.
Когда я поняла, что смерти не избежать, то потребовала, чтобы мне отрубили голову, а не повесили.
Единственное законное право моего сословия, которым я пожелала воспользоваться. Государственная хунта отклонила мое прошение на том основании, что я иностранка. Несомненно, я была иностранка. Я родилась в Риме и с восьми лет жила в Неаполе. Меня натурализовали, когда моему отцу, португальцу, было пожаловано неаполитанское дворянство и когда он принял неаполитанское гражданство. Замуж я вышла за неаполитанского дворянина и офицера. Несомненно, я была иностранка.
Для этого представления — своей смерти — я выбрала длинное черное платье, сужавшееся к лодыжкам. Последний раз я надевала его четыре года назад на похороны мужа. Я выбрала это платье не потому, что хотела показать, что ношу траур по нашим смелым надеждам, но потому, что у меня начались месячные истечения, и я предпочла надеть то, на чем не видно будет пятен, когда я буду стоять у виселицы.
Последнюю ночь я провела, стараясь унять страх.
Прежде всего я боялась уронить свое достоинство. Я слышала, что перед повешением люди теряют контроль над кишечником. Я боялась, что, когда меня поведут через площадь к помосту, на котором стоит виселица и лестница к ней, у меня начнут подгибаться колени. Боялась, что от страха при виде палача, приближающегося ко мне с глазной повязкой, и его помощника с длинной веревкой с петлей у меня случатся конвульсии. Некоторых моих друзей крики толпы «Да здравствует король!» заставили в последний миг прокричать «Да здравствует республика!» Но я хотела умереть молча.
Еще я боялась, что начну задыхаться раньше, чем меня повесят. Я знала, что, после того как палач закрепит у меня на голове грязный мешок, он или его помощник опустит мне через голову на плечи кольцо из тяжелой волосатой веревки. Невидимые руки плотно затянут кольцо, и я должна буду идти туда, куда меня потянут, к подножию лестницы, затем вверх, — я должна буду следовать за веревкой. Я представляла, как прогнется лестница под весом троих людей. Палач будет выше меня, он будет тянуть меня за голову вверх. Его помощник — ниже, он будет держать меня за лодыжки и грубо переставлять мои ноги с одной ступеньки на другую.
Потом я боялась, что не умру после того, как палач заберется на перекладину и прикрепит к ней свой конец веревки, а помощник сильнее обхватит мои лодыжки, оттолкнется и, спрыгнув с лестницы, повлечет меня за собой. Буду ли я еще жива, когда мы вдвоем повиснем в воздухе и его тяжесть потянет меня вниз? Когда палач прыгнет с перекладины мне на плечи, и когда мы станем раскачиваться из стороны в сторону, словно цепь из трех звеньев?
Рассвело. Я оделась. Меня вывели из камеры и сопроводили в комнату рядом с кабинетом начальника тюрьмы, и радость от того, что я снова вижу своих друзей — меня должны были казнить в хорошей компании, вместе с семью моими товарищами-патриотами, — неожиданно породила чувство, что мне не страшно умирать.