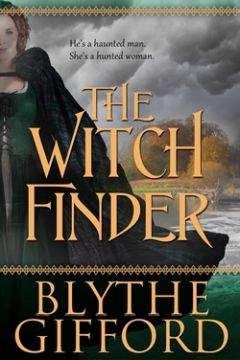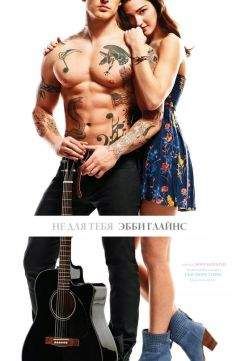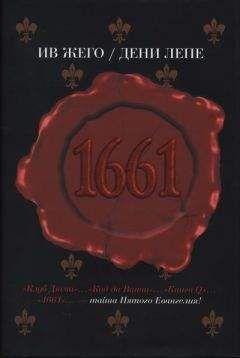— А помнишь… — начала было она, но, взглянув на мать, осеклась. У нее почти не осталось воспоминаний.
Мать дотянулась до ее головы и погладила по волосам.
— Я люблю тебя, кроха.
Кроха. Ее детское прозвище, ласковое обращение из прошлого, когда мать заботилась о дочери, а не наоборот.
И всего на секунду, но Маргрет увидела, как в обращенных на нее глазах матери промелькнула тень ее прежней.
Аромат свежевыпеченного хлеба внезапно стал жестоким напоминанием о том, что она давно не ребенок, а ее мать — больше не мать.
И вдруг — топот лошадиных копыт, а затем настойчивый стук в дверь.
Мать испуганно вскинула голову. Отряхнув белые от муки руки, Маргрет обняла ее.
— Ш-ш. Бояться нечего.
Ложь, которой впору дурачить младенцев.
Она заглянула в зазор между ставнями. Возле коттеджа стояла черная, как полночь, лошадь Александра Кинкейда, а на крыльце — ее хозяин.
Она огляделась, проверяя, не нужно ли что-то спрятать.
Он снова заколошматил в дверь. Мать тихонько завыла, лицо ее сморщилось, как у оставленного в темноте ребенка.
— Одну минуту! — крикнула Маргрет и склонилась над нею. — Все хорошо. Это всего лишь тот добрый человек, который помог нам в ту ночь, помнишь?
Помнишь… Мать порой забывала, как ее зовут. Если она и вспомнит Александра Кинкейда, то только в образе Дьявола.
Маргрет приоткрыла дверь и заслонила собой проход.
— День добрый, мистер Кинкейд.
Обычно она избегала смотреть людям в лицо, но, чтобы определить его намерения, пришлось набраться храбрости и заглянуть ему прямо в глаза.
Его намерения были далеко не добрыми. Мягкость, замеченная ею ночью, бесследно исчезла.
— День добрый, вдова… Рейд, так?
Какой-то намек, или ей показалось?
— Я вернула себе девичью фамилию. — Идиотка. Она изменила все, что могла, но поскольку фамилия Рейд была довольно распространенной, надеялась, что…
— А мужа вашего звали…?
И вновь она отказалась отвечать, ибо губы ее ненавидели лгать.
— Что привело вас сюда, мистер Кинкейд?
— Могу я войти?
Она оглянулась через плечо. Как бы повежливее отказать?
— Моя мать…
— Несомненно будет рада увидеть меня снова. — Он надавил на дверь, вынуждая ее попятиться назад. — В понедельник у нас с нею не вышло познакомиться. Она тоже вдова Рейд?
Прежде чем пропустить его, она преградила ему путь, опершись рукой о косяк.
— Она думает, что ее муж еще жив, а моем не помнит.
Наградив ее острым взглядом, он кивнул и перешагнул через порог.
— Сударыня, — обратился он к ее матери. — Как поживаете этим чудесным утром?
Та улыбнулась.
— Очень хорошо. А вы? Как вас зовут?
Маргрет возблагодарила небо за ее слабую память. Переживания той страшной ночи испарились, точно роса.
— Александр Кинкейд.
— А я госпожа Рейд, — с готовностью ответила мать. — Джанет Рейд.
Он и глазом не моргнул при этом имени. И что самое поразительное, мать держалась с ним так, словно по-прежнему была хозяйкой богатого особняка в Эдинбурге, а не беглянкой в приграничном захолустье.
— Не желаете ли хлеба? — спросила она. — Только что из печи.
Он неожиданно улыбнулся.
— Не откажусь. Пахнет потрясающе.
Распахнув глаза и разинув рот, Маргрет смотрела, как мать нарезает хлеб, мажет его маслом и протягивает своему почетному гостю.
Заметил ли он ее изувеченный палец? Если и так, то не подал виду. Пока он сидел и беседовал с нею, Маргрет держалась рядом, страшась того, что ненароком может произнести мать, ведь той было невдомек, что одно неверное слово — и она подпишет себе смертный приговор. Она наблюдала за ними, и сердце ее обливалось кровью. На короткое время мать стала пусть не совсем прежней, но женщиной, способной развлечь своего гостя любезной беседой.
И все это в любую секунду могло перемениться.
Когда Маргрет присела рядом, он отвернулся от ее матери, которая с блаженным видом жевала хлеб, и переключил свое внимание на нее.
— Сударыня, я прочел ваше рекомендательное письмо.
Ваше письмо. Она постаралась припомнить его точное содержание, которое — как она тщетно надеялась — не должен был увидеть никто, кроме деревенского священника.
— Вот как?
— О вашем муже там сказано крайне мало. Почему?
Потому что не было никакого мужа. Но вдове — в отличие от молодой незамужней женщины — разрешалось, получив свою долю наследства, проживать одной.
— Какой смысл подробно рассказывать о покойном?
— Там упоминается и ваш усопший отец, и даже кузен. Но не мать.
— Я же вам говорила. — Я умоляла вас. — Я не хотела, чтобы люди знали о том, что она душевнобольная.
— Ваши родные знают, где она?
— Они знают, что она живет со мной и что с нею все в порядке.
— Но они знают, где именно вы живете, Маргрет Рейд?
Она поперхнулась хлебом и закашлялась. Он похлопал ее по спине, и ощущение, подаренное его ладонью, затронуло не только ее плоть. Оно проникло гораздо глубже, в самую душу. Боже милостивый, что, если он способен узнать ее секреты через простое прикосновение?
Его губы очутились близ ее уха. Понизив голос, чтобы не услышала мать, он настойчиво прошептал:
— Я думаю, вы скрываетесь. И родня ваша понятия не имеет, где вы.
Или им все равно.
Она оттолкнула его.
— Мы живем мирно и никому не мешаем. Почему вы не оставите нас в покое?
— Потому что в деревне завелось зло, и я обязан проверить всех.
— Чего вы от нас хотите?
— Правды. Если она не ведьма, вы не станете возражать, чтобы я задал ей пару вопросов.
— Да взгляните вы на нее, — зашептала она. Мать вернулась к игре и что-то бормотала над Генриеттой. — Что она может вам сказать? Она уже не различает, что правда, а что ложь.
— Зато различаете вы. Молодые вдовы не перебираются без причины туда, где у них нет ни родни, ни друзей. Странно, что вас вообще отпустили из Глазго.
— Старосты знали меня, как честную, набожную женщину.
— И не спросили, куда вы собрались, как вы будете жить и с кем?
— Вы не староста и не служитель Церкви. Не думаю, что вы вправе судить меня.
— Очень зря. Я наделен всеми правами и полномочиями. А вот ваш священник из Глазго, похоже, не слишком добросовестно заботится о душах своих прихожан.
В ответ ей оставалось только упрямо молчать, ибо у нее не поворачивался язык встать на защиту несуществующего человека.