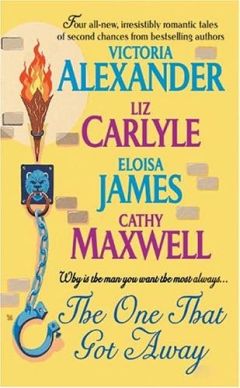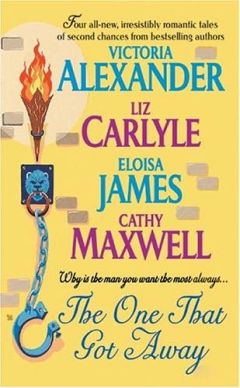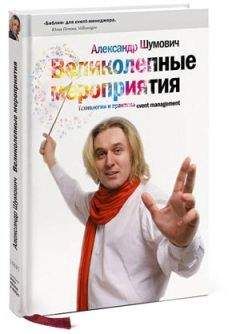Эди уже хотела спросить, к чему приводит такая непривычная близость, но тут появилась Мэри с грудой переливающегося шелка в руках.
– Вот оно! – проворковала Лила, поворачиваясь на стук открывшейся двери. – Этот цвет называется «китайская роза». Ну не самый ли восхитительный наряд, который ты когда-либо видела? Темнее киновари, более насыщенный, чем кларет… ну… почти как кларет.
Мэри моментально раздела Эди до сорочки.
– Сорочку можно оставить, но никакого корсета, – заметила Лила, подходя ближе.
Мэри обрушила водопад шелка цвета кларета на голову Эди. Какое приятное ощущение!
Лила сама поправила лиф.
– Ты выглядишь прекрасно. Неотразима! Видишь эти рюши под грудью?
Эди повернулась к зеркалу. Шелк ниспадал изящными складками, открывая ложбинку между грудями. Узкие складки на плече создавали подобие рукава, хотя рукавов фактически не было.
Мэри опустилась на колени и надела на ноги Эди туфельки на высоких каблуках в тон платья.
– По-моему, несправедливо, что ноги у нас одинаковые, а бедра – разные, – заметила Лила.
Эди повернулась в профиль. Платье превращало ее из Классической Девственницы в Классическую Лилу. Груди казались большими. А ноги – длинными. Неплохая комбинация.
– Думаешь, ему понравится?
– Любому мужчине понравится, – уверила Лила тоном, не допускающим возражения. – Ты ослепительна. А теперь – губная помада в тон. Вернись к туалетному столику.
Непривычная высота каблуков что-то творила с равновесием Эди. Будучи больной, она скользила по полу. Сегодня она не будет скользить. Она станет извиваться, а не выглядеть так, будто покачивается из стороны в сторону, как лодка на волнах.
Эффект оказался достаточно женственным, что далеко не всегда удавалось Эди. Конечно, вряд ли можно выглядеть женственно, держа между ногами большой струнный инструмент. Если истинная леди настаивает на чем-то столь возмутительном, как игра на виолончели, нужно бы прижать ее к бедру и играть, сидя боком.
Эди могла сделать это, но не видела смысла. Она, разумеется, не столь глупа, чтобы мечтать стать известным музыкантом. Как дочь графа она играла исключительно ради удовольствия, а это означало, что можно сидеть в более естественной позе.
Да, отец любил виолончель, и Эди унаследовала его детский инструмент, а потом на шестнадцатилетие он купил ей еще один, работы Руджери… но она все-таки остается леди.
Виолончель стала играть роль молчаливой сделки между ней и отцом. Эди оттягивала дебют, как могла, но оба знали, что она выйдет замуж по выбору отца. Она словно дала обещание, а свои обещания всегда держала, высказанные или невысказанные.
Теперь Эди добрела до туалетного столика и села. Сегодня днем Мэри завила ей волосы модными буклями, что очень отличалось от ее вечно растрепанной прически.
Лила подбежала ближе и принялась укладывать букли.
– Ты портишь всю скрупулезную работу Мэри, – запротестовала Эди, когда Лила уложила очередной локон.
– Нет, я делаю тебя немного менее совершенной. Мужчин пугает совершенство. Теперь чуточку губной помады.
Выкрашенные красной помадой губы Эди выглядели в два раза толще, особенно нижняя.
– Тебе это не кажется немного вульгарным? Я совершенно уверена, что отец не одобрит.
Эдит выглядела пугающе непохожей на себя. И чувствовала, что превратилась из больной лихорадкой святой в больную лихорадкой куртизанку.
– Но так надо. Твой отец никогда не понимал, что немного вульгарности – это хорошо.
– Почему?
– Это было бы плохо, если бы ты все еще искала мужа, – пояснила Лила. – Но теперь ты должна произвести впечатление на герцога и довести до его сознания тот факт, что он никогда не сможет владеть тобой.
Эди повернулась, поймала взгляд Мэри и кивнула на дверь. Когда та ушла, Эди заметила:
– Лила, дорогая, не находишь, что подобные методы не сработали на моем отце?
– Какие методы?
Лила забрала ее волосы наверх в искусную прическу, украсила изумрудами и небрежно спустила один локон на плечо.
– Делать все, чтобы мужчина чувствовал, что жена никогда не будет ему принадлежать, по крайней мере, если речь идет о верности и преданности. Думаю, это могло привести к некоторым затруднениям между вами.
Лила нахмурилась.
– Я всегда буду хранить верность твоему отцу. Ему следовало бы знать это. Потому что он знает меня.
– Но если ты постоянно твердишь, пусть и без слов, что никогда не станешь ему принадлежать… Наблюдая за вами, я поняла, что мужчины довольно примитивны, по крайней мере мой отец. Он смотрит на тебя с болью и жаждой обладания.
– Но я заверила его, что не спала с Грифисом. Он должен безоговорочно мне верить. Я его жена.
– Возможно, он нуждается в заверениях, что ты и не заинтересована в том, чтобы спать с любым другим мужчиной.
– Это дало бы ему слишком большую власть, – немедленно выпалила Лила. – Он и без того считает, что владеет мной. Прошлой ночью потребовал, чтобы я бросила курить.
Это Эди не удивило.
– Что ты ответила?
– Отказалась, конечно. Хотя сегодня вообще не курила.
Уголки губ Лилы опустились.
– Брак – дело куда более сложное, чем ты воображаешь. Если только тем и заниматься, что пытаться сделать мужа счастливым, просто доведешь себя до безумия.
Эди поцеловала мачеху:
– Простишь, если я скажу, что буду в хорошей компании? Ты слишком добра к моему ворчливому родителю.
Она взяла перчатки и палантин из прозрачной тафты.
– Нам пора на ужин. Мне не терпится увидеть, как выглядит мой жених.
Гауэйн вошел в гостиную рано и беседовал с целой толпой родственников Смайт-Смитов, пытаясь притвориться, будто не умирает от скуки.
На балу у Гилкристов он был облачен в английский костюм: вышитый камзол, накрахмаленный галстук и шелковые панталоны. Но после словесной перепалки с Эди решил предстать перед ней самим собой, не притворяться англичанином.
Стантон надел килт Кинроссов и плед цветов вождя клана Маколеев. Так ему было удобно. В окружении тощих глупых англичан с прикрытыми коленями его голые ноги, свободные от оков брюк, казались вдвое сильнее.
Рядом остановился Маркус Холройд, граф Чаттерис.
– Кинросс, как я рад видеть вас. Моя невеста сообщила, что вы недавно обручились.
Гауэйн наклонил голову.
– Да, с леди Эдит Гилкрист.
– Мои самые наилучшие пожелания! Насколько я понимаю, она талантливый музыкант. Вы тоже играете?
Гауэйну стало стыдно: он понятия не имел об увлечениях леди Эдит, не говоря уже о талантах.
– Такой же музыкант, как ваша бесценная невеста?
Стантон как-то присутствовал на утреннике, где играли Смайт-Смиты, и надеялся больше никогда не услышать столь нестройной какофонии. Если его жена – музыкант того же калибра, он будет умолять ее не играть.