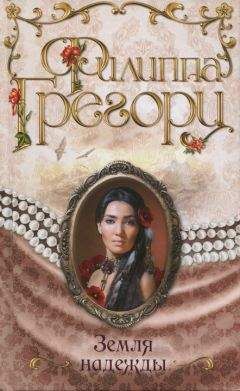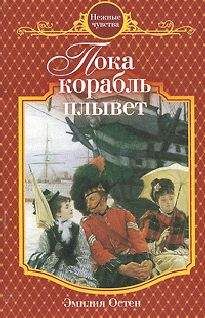Ознакомительная версия.
Эстер тихонько засмеялась.
— Ну, уж только не «Семпер Августус», — пообещала она.
Лето 1649 года
С приходом лета число посетителей Ковчега выросло, и светская жизнь в Лондоне возродилась.
Дебаты на тему того, какое следует строить общество, что может быть позволено, а что следует запретить, пылали как лесной пожар. Памфлеты, проповеди, обличительные речи и журналы потоком изливались с небольших печатных прессов, выросших за годы войны как грибы. Писались новые пьесы, выпускались новые поэмы. Все общество пронизывало ощущение того, что люди живут в самом сердце перемен, в новом мире, подобного которому никогда ранее не существовало. Королей убивали и раньше — и в Англии, и на континенте, но только на поле битвы или тайно, и их троны тут же захватывали другие претенденты. Здесь же подверглась рассмотрению вся система монархии, и был сделан вывод, что она настолько несовершенна, что народ предпочел разрушить ее и никого не поставил на опустевшее место.
Оливера Кромвеля теперь следовало называть председателем Государственного совета, и в Англии, казалось, никогда больше не будет другого короля. Даже если большинству и думалось, что новое государство не многого добилось. Участие в выборах так и не стало общедоступным, бедняки по-прежнему не имели права голоса в планировании будущего нации. Церковная десятина не была уничтожена, а ведь многие сражались именно за это. Не была проведена реформа правосудия и землевладения. В парламенте по-прежнему сохранились палата лордов и палата общин, в которых заседали джентльмены-землевладельцы, прежде всего удовлетворявшие собственные нужды. Так что справедливость, на которую так страстно надеялся Джон Ламберт, все еще была очень далеко.
И тем не менее ощущение возбуждения и оптимизма было таким же осязаемым, как и теплеющий воздух мая и июня. Царило предчувствие наступающих перемен, надежды, шанса на то, что Англию возможно будет превратить в страну, в которой смогут процветать многие вместо немногих. Семьи, годами жившие в раздоре, поскольку поддерживали враждующие армии, снова становились друзьями. Церкви, опустевшие из-за богословских споров, восстановили свое влияние благодаря новой, более свободной, неформальной манере богослужений. Людям хотелось положить конец церемониям и неискренности. Люди хотели свободно говорить со своим Богом, свободно говорить друг с другом.
Неформальное объединение философов, ботаников, математиков, врачей и астрономов регулярно проводило свои беседы. Среди них были Томас Вартон и Джон Традескант. С марта Джон Ламберт был в Лондоне и редко пропускал эти встречи, привлеченный дебатами в области математики и ботаники. Многие участники тем летом частенько посещали Ковчег, гуляли по саду, сиживали у маленького озера, восхищались чем-нибудь новым и интересным в собрании редкостей и оставались обедать.
Эстер как хозяйка ревностно старалась проявить себя самым наилучшим образом. Она гордилась тем, что могла накрыть стол для дюжины гостей и потом предложить постели половине из них, а еще больше тем, что центром притяжения для всех этих людей были дом и сад Традескантов.
Беседы затягивались далеко за полночь, и по мере того, как понижался уровень портвейна в бутылках, разговоры уводили собеседников все дальше и дальше от функций частей тела, существования ангелов, движения планет по небесной сфере и увеличения или падения содержания сахара в соке кленов в саду у Джона. Обсуждения становились все сумбурнее и красочнее. Элиас Эшмол,[41] знаток законодательства, как-то вечером поклялся, что мог бы с точностью до одного часа предсказать время смерти человека, если бы у повитух хватало ума записывать точное время рождения для того, чтобы он мог строго научно составить индивидуальный гороскоп.
— А вы хотели бы это знать? — спросил Джон слегка заплетающимся языком.
— Я все хочу знать, — ответил Элиас. — Именно поэтому я и считаю себя ученым. Я, например, родился под знаком планеты Меркурий, и вы сами видите, что я абсолютно человек своего знака — деятельный и переменчивый.
— И выглядишь как серебряный слиток, точно как этот металл! — пробурчал кто-то себе под нос.
— Но нужно проводить границу между личным и вторжением в жизнь человека, — несколько невнятно изложил свою мысль врач. — Скажем, я хочу знать, как кровь течет по венам. Но я ведь не стану вскрывать вены у себя на руках, чтобы проверить, как это происходит. Я не хочу становиться подопытным кроликом для своих же собственных экспериментов.
— Вовсе нет! — страстно прервал его один из сидящих за столом. — Пока вы не готовы проникнуть в свое собственное сердце, считайте, вы даже еще не начали исследование. Так, простое любопытство.
— Ага! То есть нужно быть готовым умереть от чумы, чтобы доказать, что она заразна!
— Нет, в самом деле, невозможно наблюдать за пациентами на расстоянии, — заметил доктор Вартон. — Когда в Лондоне была чума, я…
— А в политике разве мы не ведем себя точно так же, как с больным организмом? Сначала начинаем все менять, а потом смотрим, что из этого получится. Вырезаем сердце и смотрим, будет ли потом работать мозг?
— А вот это вовсе не было экспериментом! Это было решение, к которому нас вынудили. И я вовсе не считаю Кромвеля врачом, который пытался вылечить страну! Он цеплялся за удила, когда лошадь встала на дыбы!
— Да я вовсе не об этом хотел сказать, — сказал Джон, с трудом пытаясь вернуться к своей изначальной мысли. — Я хотел спросить, всегда ли люди хотят знать свое будущее? Вот вы, как вы сможете справиться с таким знанием?
— Конечно, все хотят, — ответил Элиас. — Я и свой собственный гороскоп составил и могу сказать, что я, например, стану достаточно известным человеком. Я посмотрел, что мне предсказано, и обнаружил, что буду стремиться к богатству и получу его вместе с женой.
— Богатая вдова? — спросил кто-то сидящий на дальнем конце стола.
— Леди Мэри Мейнуоринг, — пробормотал кто-то. — Она ему в матери годится. А он составляет ей предсказания. Могу себе представить, что он ей там напророчил.
— Меня будут помнить, — настаивал Эшмол. — И я займу свое место в храме истории.
— За что? — требовательно спросил один из математиков и деликатно рыгнул. — Прошу прощения. Что принесет вам место в храме истории? Лекарственные травы, растущие в саду у Джона? Цветы опять же из его сада, из которых вы делаете свои зелья? Не похоже, чтобы вы вдруг засияли золотом, получив в своей лаборатории философский камень. Думаю, что из всех нас будут помнить только имя Джона.
Ознакомительная версия.