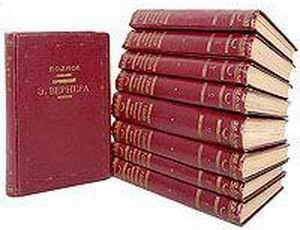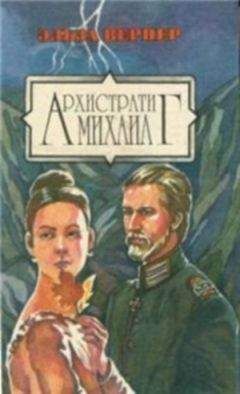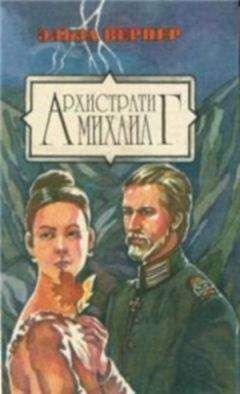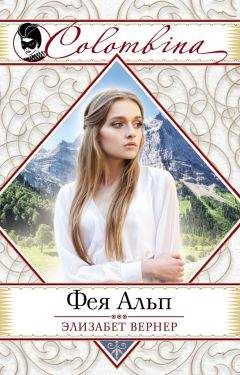— Бедная Цецилия! Значит, у тебя вовсе не было родины! — с состраданием воскликнула Майя.
Цецилия удивленно взглянула на нее; такая жизнь с постоянной переменой обстановки и окружения казалась ей именно такой, какой только и можно было желать. Родина? Это понятие было чуждо ей. Ее взгляд скользнул по гостиной; да, конечно, это было нечто другое, чем роскошные, но в то же время холодные комнаты гостиниц, в которых они жили уже много лет; эти тяжелые шелковые обои и занавесы, эта дубовая мебель, где каждый отдельный стул или кресло представляли ценное художественное произведение, эти фамильные портреты по стенам, а главное, этот комфорт, которым было проникнуто все вокруг! Но в сером свете дождливого дня все это показалось девушке удивительно серьезным и мрачным, и родина жениха внушала тайный страх избалованной дочери большого света.
— Неужели вы большую часть года живете в Оденсберге? — спросила она. — Ведь такая жизнь, должно быть, очень однообразна. У вас, по словам Эриха, чудный дом в Берлине, а вы не проводите там и двух месяцев зимой. Я не понимаю этого!
— Папа говорит, что у него нет времени, чтобы разъезжать по свету, — непринужденно ответила Майя, — а я с тетей и фрейлейн Леони была только на морских купаньях. Мне очень нравится в Оденсберге.
— Майя еще не выезжает, — объяснил Эрих, — она начнет выезжать этой зимой, когда ей исполнится семнадцать. До сих пор, когда у нас бывали приемы, наша малютка оставалась в детской, таким образом она еще вовсе не знает большого света.
— Я начала выезжать в шестнадцать лет, — заметила Цецилия. — Бедная Майя, как долго тебя заставляют ждать! Это ужасно!
— О, я не считаю этого таким большим несчастьем, потому что тогда мне придется «прилично вести себя», как выражается фрейлейн Фридберг, постоянно быть серьезной и рассудительной, и нельзя будет больше танцевать с Пуком. Пук, мне кажется, что ты спишь средь бела дня! И не стыдно тебе? Изволь сейчас же проснуться!
С этими словами Майя бросилась в угол гостиной, где Пук, обиженный тем, что сегодня на него совершенно не обращали внимания, сладко заснул на скамеечке для ног. Цецилия насмешливо скривила губы.
— В самом деле, Майя — еще совсем дитя, — тихо сказала она Эриху. — Что, Оскар, дождь загнал тебя в комнаты?
— Да, — ответил только что вошедший Вильденроде. — Мы осматривали Оденсберг, пока еще только с террасы, но твой отец, Эрих, обещал на днях ввести меня в свое царство.
— Да, да, Цецилия тоже должна познакомиться с ним, — сказал Эрих, — а потом мы съездим в Радефельд, там предполагается проложить туннель через гору Бухберг. Эгберт, — обратился он к молча слушавшему Рунеку, — мы приедем к тебе в гости.
— Я боюсь только, что наши работы не заинтересуют господина фон Вильденроде, — возразил Эгберт, — внешне он не представляет ничего достойного внимания, а до прорытия туннеля мы даже еще не дошли.
Вильденроде обернулся к инженеру, который был ему представлен перед обедом. Он знал от Эриха, что этот друг детства занимает исключительное положение в их доме, но его присутствие во время первого визита в тесном семейном кругу все-таки удивило его; при всей вежливости, с которой он отнесся к Рунеку, в его глазах ясно читался немой вопрос: «Зачем ты здесь?».
— Кажется, вы сами составили проект этих работ, господин Рунек? — спросил он. — Эрих рассказывал мне о вас. Я очень рад познакомиться с таким прекрасным инженером.
Голос барона звучал очень любезно, но на слове «инженер» было сделано ударение, и этим Вильденроде отметил границу, отделявшую сына заводского рабочего от семьи миллионера. Эгберт поклонился не менее любезно и ответил:
— Я уже имел удовольствие познакомиться с вами, господин фон Вильденроде.
— Со мной? Я не помню, чтобы мы когда-нибудь встречались.
— Это понятно, потому что мы встретились в более обширном обществе, — три года тому назад в Берлине, у госпожи Царевской.
Глаза барона пытливо устремились на молодого инженера, но на его губах появилась насмешливая улыбка.
— И вы видели меня там? Я никак не предполагал, чтобы вы вращались в таком кругу.
— Вы не ошиблись, я был там по особому случаю и не в качестве гостя. Может быть, вы скорее вспомните, если я назову точную дату? Это было двадцатого сентября.
Рука Вильденроде, лежавшая на спинке кресла Цецилии, слегка вздрогнула, и его глаза метнули гневный, угрожающий взгляд на говорившего; но этот взгляд скользнул по совершенно неподвижному лицу Рунека, как стрела, встретившая крепкий щит. Впрочем, молчание длилось не более секунды, затем барон небрежно ответил:
— Вы слишком многого хотите от моей памяти. За последние десять лет я побывал в стольких местах и встречал столько людей, что не могу помнить каждого в отдельности. Что именно случилось в тот день?
— Если вы забыли, то не стоит и говорить об этом, — холодно ответил Рунек. — Что же касается меня, то с того вечера я навсегда запомнил ваше лицо.
— Это очень лестно для меня!
Вильденроде высокомерно кивнул Рунеку и повернулся к нему спиной. Он направился в противоположный конец комнаты, где Майя теребила своего любимца Пука.
Приближение барона тотчас положило конец этой игре; Майя воинственно выпрямилась; она чувствовала настоятельную потребность заставить барона забыть ее ребяческое смущение при встрече. За столом для этого не представилось удобного случая, так как фон Рингштедт совершенно завладела новым родственником, сидевшим рядом с ней; теперь же он должен был убедиться, что Майя ни чуточки не боится его и твердо решила дать ему отпор.
Но Вильденроде не обратил внимания на ее настроение; он, как ни в чем не бывало, занял место рядом с Майей и стал беззаботно поддразнивать сначала собаку, а потом и ее хозяйку. Он говорил о всевозможных вещах немного шутливо, но необыкновенно занимательно. Такой разговор был совершенно нов для молодой девушки; барон умел очень естественно и деликатно разговаривать чрезвычайно дружеским тоном, на который ему давало право будущее родство; наконец он постарался завоевать расположение Пука. Все это не могло не повлиять на Майю. Мало-помалу она забыла о своем воинственном намерении, стала доверчивее и, наконец, так увлеклась, что начала рассказывать ему о разных разностях.
Разговор был в полном разгаре, когда Вильденроде вдруг без всякого предисловия спросил:
— Так вы больше не боитесь меня?
— Я? — Девушка собиралась с негодованием возразить, но горячий румянец против воли залил ее лицо.
— Да, вы! Я прекрасно видел ваш испуг при нашей первой встрече. Или вы станете отрицать это?