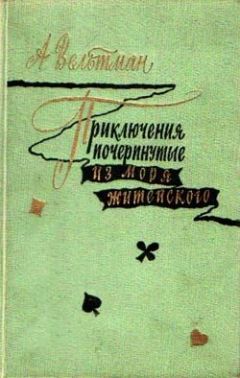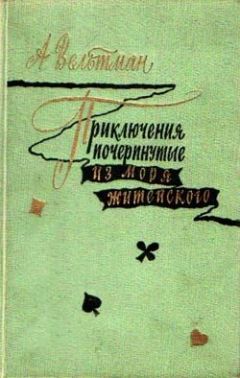— А велики дети?
— Старшей девочке так уж лет шесть-с.
— Вы на службе женились?
— Нет, уж вышедши-с.
— Да вы, кажется, и в отставке-то недавно?…
— Не так давно-с, другой год…
— Другой год! а! И женаты, следовательно, также другой год. Стало быть, на первый же случай бог вам дал тройни, да и не то чтоб грудных младенцев, а уж так на возрасте… лет по пяти, не правда ли?
— Как-с? — проговорил офицер, смутясь.
— Да уж так, не иначе! Поверьте мне, что так! Вот, mon cher, как бедных людей преследует судьба: богатым совсем не дает детей; а тут человеку, который не знает, как сам себя прокормить, вдруг залпом троих подросточков… Э-эх, Федор Петрович, стыдно! Вот уж этого-то не ожидал от вас!
Офицер побледнел, задрожал как лист, приподнялся со стула как уличенный в преступлении.
— Стыдно, господин Яликов, промышлять таким обманом!
— Не погубите-с! — проговорил Яликов, готовый упасть на колени.
— Полноте, что вы это! Как ты думаешь, mon cher: y человека было огромное состояние, была жена, — образованная дама высшего тона, — все с рук спустил! И вот теперь в каком положении!
— Кто, я с рук спустил? — проговорил жалобным голосом Яликов, — неправду вам сказали-с, ей-ей неправду! Вот вам Христос, что я ни душой, ни телом не виноват!
— Где ж ваше состояние? где жена? а?… Да отвечайте же!
— Не могу-с!.. Горько-с!.. Бог с ней! — проговорил Яликов, зарыдав и закрыв лицо шляпой.
Сначала Рамирский смотрел с презрением на бедняка, которого обман Дмитрицкий вывел на чистую воду, но когда он горько зарыдал, сожаление глубоко проникло в душу Рамирского.
— Если б ты знал, топ cher, жену его, — вот истинный ангел! Не правда ли, Федор Петрович? — сказал Дмитрицкий.
— Да-с, ангел, точно ангел! — отвечал Яликов, отирая глаза.
— Я думаю, вам ужасно как жаль Саломеи Петровны? — Какже-с… жаль!..
— Нельзя и не жалеть. Представь себе, mon cher, роскошнейшую женщину, красавицу, блестящего воспитания, полную чувств, музыкантшу, певицу — ну, просто очарование… вышедшую по любви замуж… вот за них. Великолепный дом на лучшей ноге, прислуга, экипажи, ну, словом все — роскошь! Не правда ли, Федор Петрович?
— Действительно так-с! — отвечал Яликов, вслушиваясь с грустью в описание своего прошедшего счастия.
— Не понимаю, каким же образом все это рушилось? — спросил Рамирский.
— Да поди, спрашивай виноватого; пожалуй, обвинят и зайца, который перебежал дорогу Федору Петровичу; а если посудить глубже, так вся беда-то, как говорится, в колыбели выкачана, на материнских руках вынянчена, родительским попечением взлелеяна, добрыми людьми откормлена. Отчего, например, я, Волобуж, иностранец, а не русский, не какой-нибудь Дмитрицкий? Я бы и был Дмитрицким, если б дома не научили меня играть роль смирного мальчика, тогда как я был шалун; если б в пансионе не научили меня играть роль прилежного, тогда как я был лентяй; а потом отчаянного и лихого малого, тогда как я был трус. Таким образом, разыгрывая чужие роли, можно забыть о своей собственной; под вечной маской сотрется собственное лицо, родной отец не узнает родного сына. Понятно? Кто, например, поручится, что и я не виноват, что Федор Петрович, также по привычке играть роли, вздумал разыграть перед нами отца семейства, удрученного бедностью; кто поручится, что бедная супруга его, Саломея Петровна, не разыгрывает теперь роли француженки и не заведывает каким-нибудь Чаровым.
— Да уж если правду говорить, так она и в девушках была еще француженкой! — сказал Яликов, — я это тотчас заметил, да каналья сваха надула.
Рамирский с грустным удивлением слушал слова Дмитрицкого; имя Чарова его поразило, но он невольно усмехнулся на замечание Яликова. Дмитрицкий не был смешлив и пресерьезно сказал:
— Без сомнения, должно быть так, Федор Петрович.
— Да уж душа никогда не обманет, — прибавил Яликов.
— Конечно, особенно ваша. Знаете что, Федор Петрович, ведь Саломея Петровна здесь.
— Где-с? — с испугом спросил Яликов.
— В Москве.
— У родителей-с?
— Нет, от роли дочери она отвыкла. Хотите, я вас с нею сведу?
— Нет уж… Бог с ней!.. Куда уж мне… Если б хоть отдала мне ломбардный билет… Если б вы изволили сделать милость попросить ее, — сказал Яликов, привставая с места и кланяясь.
— Вот задумали о ломбардном билете! Вы, мужчина, не умели беречь денег, где ж уберечь их слабому нежному существу! Ее самое, дело другое, можете получить: я об этом озабочусь.
— Нет уж, покорно благодарю! — проговорил Яликов, снова вставая, — я беспокоить не хочу Саломеи Петровны… Если б какое-нибудь местечко открылось… потому что за квартиру вот плачу целковый в месяц; пища также — уж все проешь в день гривенничек.
— С женой-то на сносе и с четырьмя детьми? Послушайте: мало!
— Это уж я так… проговорился, — сказал Яликов, стыдливо потупив глаза, — потому что на той же квартире живет одна очень хорошая женщина с детьми… так она пригласила меня в компанию, стол держать вместе.
— А! это дело другое, теперь понимаю; вы говорили: жена с детьми, я думал, что ваша собственная; но выходит, что не ваша, а просто жена с детьми, вместе с которой вы держите стол, вместе приходы и расходы, так?
— Так точно-с; я не умел объясниться хорошо сначала.
— То-то и беда: надо всегда хорошо объяснять все сначала, а не то люди подумают бог знает что. Так вам нужно только теплое местечко? Где ж бы нам найти его?
— Хотите ко мне в управляющие, — сказал Рамирский, — вы будете иметь все готовое и пятьсот рублей жалованья. Все ваше дело будет состоять в сборе и пересылке ко мне оброка.
— Ну, вот, хотите? — прибавил Дмитрицкий.
— Как не хотеть-с, я бы очень желал.
— Ну, так дело и кончено. Завтра вы явитесь к Федору Павловичу, а теперь можете отправиться домой. Вы где живете?
— В Зарядье.
— Охо-хо! Так вы не рассердитесь, если я вам предложу
и место пары гнедых, чтоб доехать до квартиры, пару синих? Пожалуйста, не церемоньтесь, Федор Петрович, что за церемонии между приятелями.
Яликов в восторге поклонился чуть-чуть не до земли.
— Приходите завтра ко мне часов в девять утра, мы поговорим, — сказал Рамирский.
— Непременно-с!
Яликов еще раз поклонился и вышел.
— Доброе дело сделал, mon cher, ей-богу доброе! — сказал Дмитрицкий по выходе просителя. — Если б ты знал, что это за карась и что за щука жена его… Да ты, я думаю, догадался, что это за лицо?
— Право, нет.
— Ну, ты рассеян или спать хочешь.
Воображение Рамирского в самом деле было слишком занято собственным делом, и потому он мало интересовался чужими.