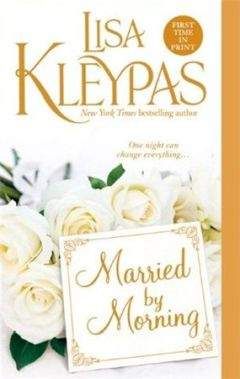Кристофер саркастически фыркнул.
— Кто придумал эти правила?
— Не знаю. Но мы должны следовать им или испытаем на себе гнев общества. — Одри помолчала. — Твоя мать сказала, что не будет переходить в полутраур. Она намерена носить чёрное до конца жизни.
Кристофер кивнул, ничуть не удивлённый. Привязанность его матери к Джону только усилилась в результате его смерти.
— Очевидно, каждый раз, глядя на меня, она думает, что на месте Джона должен был быть я.
Одри открыла рот, чтобы возразить, но затем закрыла его.
— В том, что ты вернулся живым, едва ли есть твоя вина, — наконец, произнесла она. — Я рада, что ты здесь. И верю, что где-то в глубине души, твоя мать тоже радуется этому. Но за прошедший год она стала немного неуравновешенной. Я не думаю, что она всегда отдает себе отчёт в своих словах и поступках. И полагаю, что время, проведённое за пределами Гэмпшира, пойдёт ей на пользу. — Она помолчала. — Я тоже намереваюсь уехать, Кристофер. Хочу навестить свою семью в Лондоне. Было бы неприличным для нас оставаться здесь вдвоём без компаньонки.
— Если хочешь, через несколько дней я провожу тебя в Лондон. Я намерен отправиться туда, чтобы повидаться с Пруденс Мерсер.
Одри нахмурилась.
— Ох!
Кристофер ответил ей вопросительным взглядом.
— Я делаю вывод, что твоё мнение о ней ничуть не изменилось.
— Изменилось. Оно стало ещё хуже.
Кристофер не мог не вступиться за Пруденс.
— Почему?
— За прошедшие два года Пруденс приобрела репутацию неисправимой кокетки. Её заветное желание — выйти замуж за богатого мужчину, предпочтительно с титулом — известно каждому. Я надеюсь, ты не испытываешь иллюзий, что она тосковала по тебе во время твоего отсутствия?
— Едва ли я мог ожидать, что она будет носить власяницу в то время, пока меня не было.
— Хорошо, потому что она и не делала этого. В действительности, она совершенно не вспоминала о тебе.
Одри сделала паузу, прежде чем с горечью добавить:
— Тем не менее, вскоре после смерти Джона, когда наследником Ривертона стал ты, Пруденс вновь проявила большой интерес к твоей персоне.
Обдумывая эту неприятную информацию, Кристофер хранил невозмутимое выражение лица. Данное описание совсем не подходило той женщине, с которой он переписывался. Очевидно, Пруденс стала жертвой злобных сплетен, что с учётом её красоты и обаяния, было вполне ожидаемым.
Однако он не собирался начинать спор со своей невесткой. Надеясь отвлечь её внимание от такой щекотливой темы, как Пруденс Мерсер, он сказал:
— Сегодня во время прогулки я случайно столкнулся с одной из твоих подруг.
— С кем?
— С мисс Хатауэй.
— С Беатрис? — Одри внимательно взглянула на него. — Надеюсь, ты был вежлив с ней.
— Не особенно, — признался Кристофер.
— Что ты сказал ей?
Бросив хмурый взгляд на свою чашку, Кристофер пробормотал:
— Я оскорбил её ежика.
Одри выглядела сердитой.
— О, Господи!
Она стала помешивать чай столь энергично, что ложка угрожала расколоть фарфоровую чашку.
— Только подумать, ведь когда-то ты славился своим красноречием. Какой извращённый инстинкт заставляет тебя раз за разом оскорблять одну из самых милых девушек, которых я когда-либо знала?
— Я не оскорбляю её постоянно. Я сделал это только сегодня.
Рот Одри насмешливо искривился.
— Какая у тебя удобная короткая память. Всем в Стоуни-Кросс известно, как ты однажды заявил, что ей самое место в конюшнях.
— Я никогда бы не сказал такого женщине и не важно, насколько чертовски странной она бы ни была.
— Беатрис подслушала, как ты говорил это одному из своих друзей во время праздника по поводу уборки урожая в Стоуни-Кросс Мэнор.
— И она рассказала об этом всем?
— Нет, она сделала ошибку, доверившись Пруденс, которая разболтала об этом всем и каждому. Пруденс — неисправимая сплетница.
— Очевидно, ты не питаешь никакой симпатии к Пруденс, — начал было Кристофер, — но если ты…
— Я изо всех сил старалась полюбить её. Я думала, что если соскоблить шелуху неискренности, то под ней можно будет обнаружить истинную Пруденс. Но под верхним слоем ничего не оказалось. И сомневаюсь, что когда-нибудь будет.
— И, по-твоему, Беатрис Хатауэй гораздо лучше Пруденс?
— Во всех отношениях, за исключением, возможно, красоты.
— Здесь ты ошибаешься, — сообщил Кристофер, — мисс Хатауэй — красавица.
Одри удивлённо приподняла брови.
— Ты так считаешь? — медленно спросила она, поднося чашку ко рту.
— Это очевидно. Невзирая на то, что я думаю о ее характере, мисс Хатауэй — чрезвычайно привлекательная женщина.
— Ох, не знаю… — Одри сосредоточила всё свое внимание на чашке с чаем, добавив в неё крошечный кусочек сахара. — Она довольно высокая.
— Её рост и фигура — безупречны.
— И её каштановые волосы — такие обычные…
— Это не обычный оттенок каштанового, он такой же тёмный, как мех соболя. И эти глаза…
— Голубые, — сказала Одри с оттенком пренебрежения.
— Более насыщенной и чистой голубизны я никогда не видел. Никакой художник не смог бы передать… — Кристофер внезапно оборвал фразу. — Не важно. Я отвлёкся от темы.
— А какая у тебя тема? — любезно поинтересовалась Одри.
— То, что для меня не имеет значения, красива или нет мисс Хатауэй. Она весьма эксцентрична, впрочем, как и вся её семья, и меня не интересует никто из Хатауэйев. К тому же мне совершенно наплевать на красоту Пруденс Мерсер, меня привлекает её ум. Её прекрасный, оригинальный, глубокий ум.
— Понятно. Значит, ум Беатрис — своеобразный, а ум Пруденс — оригинальный и глубокий.
— Именно так.
Одри медленно покачала головой.
— Есть кое-что, о чём бы я хотела тебе рассказать. Хотя со временем это и так станет более очевидным. Но ты бы не поверил этому или, по меньшей мере, тебе бы не захотелось в это верить. Это одна из тех вещей, о которых человек должен догадаться сам.
— Одри, о чём, чёрт побери, ты говоришь?
Скрестив на груди тоненькие руки, его невестка мрачно разглядывала Кристофера. И всё же странная слабая улыбка тронула уголки её губ.
— Если ты настоящий джентльмен, — наконец, произнесла она, — то завтра же нанесёшь визит Беатрис и извинишься за причинённую обиду. Отправляйся вместе с Альбертом. Уж его-то она точно будет рада видеть.
На следующее утро Кристофер пешком отправился в Рэмси-Хаус. Не потому, что ему действительно этого хотелось. Однако планов на день у него не имелось, и если он не желал сталкиваться с суровым взглядом матери или, что ещё хуже, молчаливым стоицизмом Одри, нужно было куда-то уйти. Тишина комнат, воспоминания, гнездившиеся в каждом уголке и в каждой тени, — это больше, чем он мог вынести.