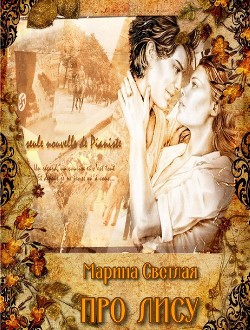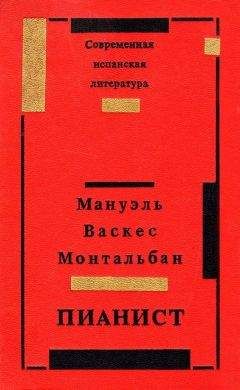— Я не хочу, — медленно произнес Пианист.
— Тогда я поеду сама.
— Сама?
— Сама. Переночую в Мадриде в гостинице.
Она достала из шкафа юбку глубокого синего цвета и две блузки — светлую и темную, бросила их на кровать и внимательно рассматривала одежду, озадачившись выбором. Точно так же, будто озадачившись выбором, он изучал ее. Потом разлепил губы и проговорил:
— С лентой у горла лучше.
Потом все-таки встал, отбросил блокнот на тумбочку и направился в душ.
А когда вернулся, увидел курившую в кресле Лису. На ней был сарафан, и половину стола занимала соломенная широкополая шляпа, в которой она ходила на пляж.
Передумала.
Пожалела? Неважно.
Передумала и курила, ожидая его.
Пианист давно перестал ворчать, видя ее с сигаретой в пальцах. Он смирился. Смирился с тем, что больше никогда не услышит ее голоса, когда она поет. Смирился с молчанием пианино в их доме. И выключал радио — раз за разом выключал радио — если там начинались музыкальные передачи. У каждого из них была жизнь, проживаемая внутри. Ее — он знал. Она попыталась заглянуть в его. Воздух вдруг стал плотным и жарким — не продохнуть.
— Мы поедем поездом или автобусом? — чувствуя сухость в горле, спросил Пианист.
Она удивленно вскинула брови.
— Мы пойдем пешком. По дороге позавтракаем в том маленьком ресторанчике на углу. Все же у них самые вкусные пироги.
— Тогда не вздумай обувать обувь на каблуках — до Мадрида путь неблизкий, — вдруг рассердился Пианист и, как она получасом ранее, отвернулся к шкафу.
Лиса внимательно следила за ним — ткань рубашки скрывала его плечи, пальцы быстро бежали вдоль пуговиц, оставляя распахнутым ворот. Сигарета в ее руке погасла, пока она обижалась на ремень, крепко обхвативший его талию.
— У меня удобные сандалии, — проговорила она. Прозвучало негромко и хрипло. Потом отбросила сигарету, поднялась и подошла к нему. — Мне важно все, что касается тебя, чем бы и каким бы оно ни было.
— Я знаю. Поездом или автобусом?
— Автобусом.
Автобусом ехали долго, по иссушенной земле, от которой в воздух поднималось жаркое марево. Сначала от Картахены резкими и золотисто-пепельными дорогами Мурсии. Из камня и гор — все ниже и ниже, до скуки и блеклости. Потом — по россыпи городков Кастилии, жужжащих ульями в равнине, где под солнцем плавились даже жемчужно-серые дома́, похожие и непохожие на тот, в котором он вырос. Вырванный из памяти, он сейчас казался ему нереальным, существующим словно в другом времени, совсем не том, в котором он жил. Впрочем, до́ма — «до́ма», — неуверенно повторял он про себя — и земля была другая, совсем не похожая. Зеленее, сочнее, ярче. Так он помнил. И снова — из равнины вверх, по восходящей, к холмам, в горы. Где становится легче дышать.
Но чем ближе они были к Мадриду, тем более сильное чувство он испытывал. Не страха, нет… Тяжести. Несоизмеримой с прожитыми годами. И вины за то, что способен глядеть на дорогу впереди себя, убегающую сизой лентой вдаль насколько хватает глаз. Потому перед собой не смотрел. Не думал. Сжимал в руке ладонь Лисы, лаская длинными пальцами ее пальцы. И изучал завиток золотистых волос у ее виска, выглядывавший из-под светлой почти девичьей шляпки, в которой она казалась двадцатилетней. Завиток, шляпка, ладонь были в эти часы спасением — за ними можно было не видеть ленту дороги.
— Я решил все же давать уроки, — невпопад сообщил он, когда деревушки и городки за окном автобуса зачастили — верный признак приближения к большому городу.
— Виолончелистки тебе кажется мало? Теперь будут еще и ученицы? — негромко рассмеялась Лиса, устроив голову у него на плече.
— Лисята. Я хотел учить лисят.
— Тогда я буду оплачивать эти уроки.
— Славно. Года за два накоплю на новую машину.
Она поцеловала его в щеку.
— Это вместо подписи в договоре, — после посмотрела в окно. — Уже скоро?
Пианист не ответил. Кивнул только. До Мадрида оставалось совсем немного, но они вышли раньше. Лос-Комбос, крошечное поселение на несколько домов, откуда он был родом, лежал в стороне, к юго-западу от Мадрида, возле Мостолеса. И теперь, как и в прежние времена, проще было добраться попутчиком с теми, кто направлялся дальше на запад, в Пласенсию или Касерес. Потому что уже очень давно никому не приходило в голову наведываться в Лос-Комбос — и уж тем более остаться там навсегда. Так было и прежде. О чем говорить теперь?
Им повезло. Водитель грузовичка, возвращавшийся в Мостолес из Мадрида, согласился провезти их чуть дальше, чем ему самому было нужно. «Километра три придется пройти пешком», — предупредил он. И Пианист вопросительно посмотрел на Лису.
Теперь он был сдержан и сосредоточен на каждом моменте проживаемого времени, не желая думать о конечной цели их путешествия.
— Прогуляемся, — согласилась она. — А может, там по дороге еще кто встретится.
«А может, там по дороге еще кто встретится», — точно такие слова произнесла его сестра, когда он выходил из дому рано утром в желтоватую дымку рассвета, покуда родители и братья еще спали в своих кроватях. Она все тревожилась о том, что он, бедняга, уходит совсем один — неизвестно в какую жизнь. Он, по крайней мере, действительно отправился в жизнь. Ему не было и пятнадцати лет. Зато за спиной была гитара, несколько песетов в кармане и длинное крепкое тело, даже мальчишеская нескладность которого не заставляла сомневаться в том, каким он однажды станет.
Сестра же оставалась — единственная, с кем он делился мечтой полностью, до конца. И она отзывалась на его мечту, отдавая в то утро все накопленное ею для его дикого предприятия. Они были близнецами и одинаково хороши собой. В них угадывались цыганские черты их матери, но сила воли отца была вылеплена на их лицах упрямыми подбородками. Он клялся ей, что найдет, как передать весточку о себе, но оба не умели читать. В ту пору Пианист мог лишь писать свое имя. И узнавал несколько слов, мелькавших на витринах Мостолеса. Они были старшими. Их не учили. Они работали на ферме, помогая родителям. А вот малышей каждое утро возили в школу.
«Не волнуйся, дойду!» — сверкая ямочками на мальчишеских щеках, не знавших бритвы, отвечал он тогда сестре. Обнимал ее в последний раз. И уходил — каждый раз, сколько снилось ему их прощание — уходил дорогой в Мостолес, а после в Мадрид, чтобы, там затерявшись, заработать немного денег и отправиться дальше. В Париж, за своей мечтой.
Мечты сбылись. Настоящие — все до единой. Он был до черта везуч.
— Не волнуйся, дойдем, — медленно повторил Пианист вслед за собой, пятнадцатилетним юношей, проснувшимся в нем в эти минуты. Потом крепко взял Лису за руку и повел за собой по дороге, устеленной серовато-белесой пусьерой, похожей на прах. Здесь, на этом пути, в 1926 году он знал каждый камень.
Она легко шла рядом с ним, не замечая, как ее босые ноги в легкой обуви покрываются дорожной пылью. То, что могло бы быть поводом для сердитой вспышки в Париже, не имело никакого значения на пустынной дороге, выжженной южным солнцем. Эта дорога вела их к неизвестному Лисе месту, когда-то покинутому Пианистом, чтобы однажды войти в ее жизнь.
Что она хотела там увидеть — и сама не знала, но желание было настолько сильным, что она отметала прочь нежелание Пианиста и его дурное настроение. Так, словно все, чем наполнено ее прошлое, происходило только для одного-единственного мгновения, когда она увидит то, что было его началом.
Ладони их были горячими, его — так и вовсе пылали. Настолько, что она могла чувствовать его сердце, бившееся под кожей. Но руки ее Пианист не отпускал.
Прошло совсем немного времени, когда впереди, в небольшой рощице, которые то тут, то там были раскиданы по раскаленной равнине, показалось несколько домиков — даже издалека казавшихся ветхими. Ветхими они были, конечно же, целую вечность. Бедность отпечатывается и на камнях, из которых они сложены. Голый край. Голая земля. Даже выцветшее небо над ними виделось голым и бедным. Тем жарче был воздух, который мог расплавить кожу и кости.