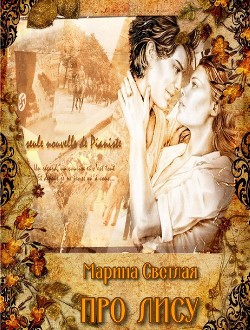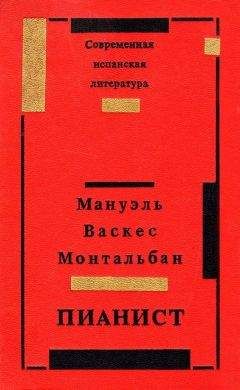И потому что она все же вышла из дома, не сумев удержаться рядом.
Лиса не знала, сколько прошло времени до тех пор, как она осознала себя стоящей посреди двора и смотревшей в черное небо. Она вдыхала неожиданно пряный воздух, остывающий после жаркого дня. Чувствовала, как легкий ветер шевелит ее волосы, отчего щекотно было шее — там, где она привыкла ночами чувствовать пальцы Пианиста.
И здесь, за порогом дома, были слышны звуки струн, лившиеся в открытое окно. Они обволакивали ее плотным бархатом, ласкавшим кожу. Томились непрерывной мелодией. Жарко шептали о прошлом и будущем, отзываясь не болью и тошнотой, а давно забытым чувством волнения, которое в ней всегда вызывала музыка. Без которой она долго не мыслила своей жизни. С которой не могла жить бесконечность.
Когда она вернулась в дом, на губах ее блуждала улыбка. Она поймала взгляд Пианиста и вслушивалась в каждую ноту, получавшую свободу под его пальцами.
Он это понял. Он это видел. Лиса была одновременно спокойна и взволнована. И глядела совсем не так, как в тот вечер, когда танцевали коф-а-коф, а она вошла к Бернабе и надела кольцо из проволоки. Больше не закрывалась — от него не закрывалась. И его в тот же миг отпустило. Теперь в ее глазах была свобода, которой ни один из них никогда не испытывал. Свобода от прошлого, оставшегося с ними, оно не делось никуда и никогда не денется. Но она слушала музыку. Она слышала музыку. И ее вздымавшаяся грудь говорила ему о многом.
Аbuela снова заголосила. Только теперь скрипучий и дряхлый голос ее выводил песню, которую она всегда пела на праздниках, сколько Пианист помнил себя. Для них двоих и на публику — столпившихся за окнами людей, слушавших их.
Странный концерт. Самый нелепый концерт в его жизни.
И только пальцы теперь бегали отдельно от его глаз, продолжавших глядеть в глаза Лисы, опьяненные этой их общей победой. До самого последнего всхлипа струн. А потом его оглушила тишина, которая больше уже не пугала. Он видел одну только Лису перед собой. И ждал… сам не знал, чего ждет.
Она подошла к нему, присела рядом, коснувшись плечом его руки. Некоторое время, так же, как и Пианист, слушала тишину, которая для нее теперь была лишь переходом к новому — тому, по чему скучала, злясь, что мучает Пианиста, и терзаясь сама… и привыкала к переживаниям, которыми вновь начала дышать.
Лиса стряхнула задумчивость и негромко попросила:
— Сыграй еще.
Он втянул носом воздух, пронзительно, но коротко всмотрелся в ее душу, замершую в глазах. А потом медленно улыбнулся, будто боялся спугнуть случившееся. И разлепил губы, чтобы сказать ей что-то самое главное, хотя чувства никак не хотели складываться в слова.
Его перебила аbuela, зарокотав что-то восторженное и веселое. И вместе с тем каждый из них, и Лиса, и Пианист, видели, как по старому ее лицу катятся слезы. Кажется, она тоже просила его продолжать.
Пианист так никогда и не стал достаточно знаменит, чтобы следовало называть его имя. Но как в тот вечер он прежде и не играл. Как в тот вечер, он никогда не любил — не умел он любить так сильно.
И уже после, когда они с Лисой оказались на охапке сена почти под звездами — аbuela их уже не пустила в ночь, он, прижимая к себе теплое родное тело, прошептал:
- Ты, как всегда, была права… Чтобы начать новое, нужно избавиться от старого… Мы избавились?
— Нет, но мы научились с этим жить.
— Не научились. Пережили. Я учился тебя ненавидеть, там, в шталаге… Ничему научиться нельзя.
— Можно. Но это хорошо, что ты не умеешь, — она уткнулась носом в его руку, коротко прижимаясь к ней губами, и после долгой паузы, которые мастерски умела держать со времен своих выступлений, добавила: — Нашей семье достаточно и одного лицемера.
— Дура, — хмыкнул он, целуя ее в золотистую макушку.
— Я люблю тебя, — ответила она, удобно устраиваясь в его объятиях.
Значительный отрезок своей жизни Пианист мечтал набрать Лисе воды в ванну и приготовить чаю. Его мечта сбылась. Все мечты сбылись — истинные, не имевшие отношения к тщеславию или надеждам юноши, не знавшего мира. Однако прежде он и не подозревал, что оставалась одна не воплотившаяся.
Головка Лисы на его мерно вздымающейся груди. Сено, щекочущее влажную от пота спину. Привкус ужасного сыра и виноградной водки на языке. Золото лунной монетки в щелях крыши. Золото Лисьих волос.
В тот вечер случилось. Произошло. Он понимал это, лаская ее лицо пальцами, которые она ревновала к клавишам. И шепча на смеси французского и испанского нечто безотчетно нежное и глупое.
Ничему научиться нельзя, если этого нет внутри человека.
Ненависти. Если сердце звенит струною, которую не заглушить. Любви. Если душа — иссушенная дорога с растрескавшейся землей да голыми камнями. Музыке. Если звуки ее исходят из самого главного. Из того, чем наполнено чувствительное местечко у солнечного сплетения. Все уже есть в человеке, едва он пришел. Нужно лишь отыскать.
Сын дикой цыганки и аристократка из Бреста.
Пианист громко фыркнул и захлопнул альбом. Чтобы тот еще годы простоял на полке, пока кто-нибудь снова его не столкнет. Самое важное на снимках не запечатлеть.
Только Сесария, глядящая с портрета в новехонькой рамке на той же полке, среди фотографий жены и лисят, будто подмигивает ему.
— Gitano! — сбивчиво повторяла аbuela, когда на другое утро они уходили в Мадрид. Пианист никогда не смог бы забрать ее из этой неосвященной земли, где лежали ее сын и ее внуки, но с содроганием слушал звенящий в воздухе старческий голос, когда они прощались, и старуха обнимала их по очереди. — Gitano…
Он помнил старые скрюченные пальцы, похожие на когти хищной птицы, протягивавшие ему крошечный портрет сестры. Это его они увеличили и раскрасили по приезду в Ренн. И поставили рядом со своими фотографиями. Чтобы Сесария тоже видела жизнь.
Но в то утро, яркое до рези, палящее до боли, Пианист отчетливо осознал, что они с Лисой написали свою секвенцию — то восходящую, то нисходящую, замыкающуюся в единственно возможной тональности их однозвучности.
FIN.