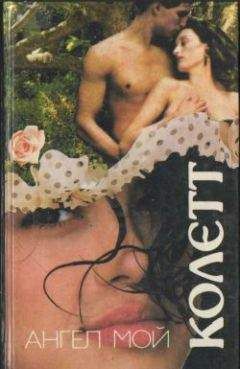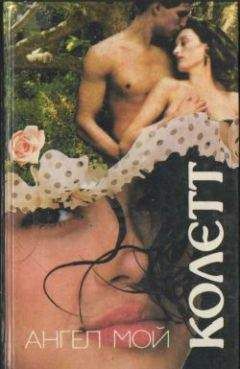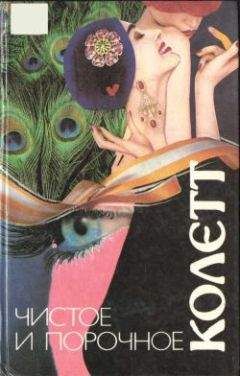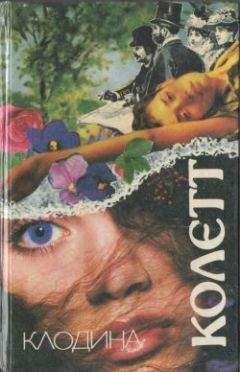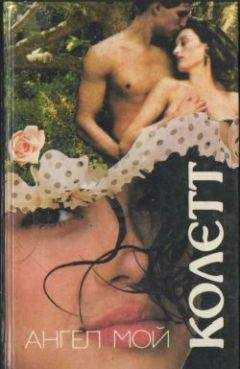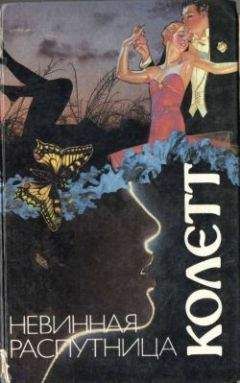Тогда к её обычному кличу добавлялось сделанное тем же тоном, молящим о безотлагательности, напоминание о времени: «Уже четыре! А они так и не пришли полдничать! Где же дети? Половина седьмого! Будут ли они ужинать? Куда ж они запропастились?..» Красивый мамин голос – услышь я его сейчас, заплакала бы от умиления… Нашим единственным грехом, единственным проступком было молчание и некое волшебное исчезновение. Ради своих невинных замыслов, ради свободы, в которой нам не отказывали, мы перепрыгивали через ограду, сбрасывали обувь, а для возвращения домой пользовались лестницей или невысокой изгородью соседей. Тонкий, вечно бодрствующий материнский нюх распознавал исходящий от нас запах черемши с дальнего оврага или болотной мяты. Из мокрого кармана одного из братьев она доставала трусы, в которых тот искупался в болоте – рассаднике малярийных комаров, а с разбитого колена и содранного локтя Малышки, без единого стона истекающей кровью, снимала пластыри из травы, паутины и молотого перца…
– Завтра я вас всех запру! Всех, слышите, всех без исключения!
Завтра… А завтра старший, не удержавшись на черепичной крыше, где он устанавливал бачок с водой, ломал себе ключицу и стоически, рыцарски, в полуобморочном состоянии дожидался у основания стены помощи. Младший же, не издав ни звука, получал по лбу шестиметровой лестницей и застенчиво носил фиолетовую шишку, вскочившую меж глаз…
– Где же дети?
Двоих уж нет. Двое других день ото дня всё старее. Если есть такое место, где после смерти волнуются за других, то та, что беспрестанно волновалась за нас при жизни, всё ещё вздрагивает из-за двоих живущих. Но теперь по крайней мере она перестала вглядываться в черноту окна по вечерам, высматривая самую старшую из нас: «Ох, чувствует моё сердце, девочка несчастна… Ох, страдает она…»
Больше не вслушивается она, трепеща, в поскрипывание по снегу одноколки доктора – старшего из её сыновей, – в шаг его серой кобылы. Но знаю: невидимая, мучимая тем, что недостаточно покровительственна, она всё ещё здесь ради двоих оставшихся – бродит, ждёт: «Где же, где же дети?»
Когда он украл её году этак в 1853-м у семьи, состоящей из неё и двух её братьев – французских журналистов, обосновавшихся после женитьбы в Бельгии, – а также у друзей – богемной кучки молодых французских и бельгийских художников, музыкантов и поэтов, – ей было восемнадцать. Белокурая, не слишком красивая и привлекательная, большеротая, с маленьким подбородком, серыми весёлыми глазами, со сколотыми на затылке гладкими волосами, проскальзывающими меж шпилек, юная, независимая, привыкшая к честным и открытым отношениям с мужским полом, братьями и друзьями, – такой она была. А ещё невысокой, крепкой, с покатыми плечами и плоской талией, с подвижным изящным бюстом над широкими юбками. И бесприданницей: ничегошеньки-то у неё не было.
Дикарь увидел её в тот день, когда она приехала из Бельгии во Францию к своей кормилице-крестьянке на несколько летних недель, он как раз объезжал свои земли, расположенные по соседству. Привыкший иметь дело со служанками: соблазнил – бросил, он возмечтал об этой раскованной девушке, без улыбки, твёрдо взглянувшей ему в глаза. Чёрная борода наездника, бледное и точёное, как у вампира, лицо, его красная, словно черешня, лошадь не оставили её равнодушной, но, когда он стал наводить о ней справки, она и думать о нём забыла. Он узнал её имя и что зовут её Сидо, сокращённо от Сидони. Формалист, как и многие «дикари», он растолкал нотариуса и родню, и в Бельгии стало известно, что этот отпрыск благородного дворянского семейства, владеющего стекловаренным делом, имеет фермы, леса, прекрасный дом с крыльцом и садом, а также наличные деньги…
Испуганная, притихшая Сидо, перебирая свои белокурые локоны, слушала, что говорилось вокруг. Однако что остаётся юному существу без состояния и профессии, живущему на содержании братьев, кроме как безропотно принимать выпавшую на её долю удачу и благодарить Бога.
И покинула она уютный бельгийский домик с кухней в подвальном этаже, где стоял запах газа, тёплого хлеба и кофе, покинула пианино, скрипку и большое полотно Сальватора Розы,[2] завещанное ей отцом, горшочек с табаком и тонкие глиняные трубки с длинным мундштуком, печи, работающие на коксе, раскрытые книги и смятые журналы, чтобы посреди суровой зимы, характерной для лесных стран, войти молодой хозяйкой в дом с крыльцом.
Там неожиданно для себя она обнаружила на первом этаже отделанную белым золотом гостиную, а на втором, заброшенном, словно чердак, – едва оштукатуренные стены. Две добрые лошади в конюшне, две коровы в хлеву вволю наедались сеном и овсом, в службах сбивалось масло и вызревал сыр, но в ледяных спальнях не было места ни любви, ни спокойному сну.
Вдоволь было фамильного серебра с выгравированной на нём козой, стоящей на задних копытах, вдоволь было хрусталя и вина. По вечерам в кухне при свете свечи сумрачные старухи пряли пряжу, трепали и сматывали пеньку, чтобы полнились амбары, застилались постели тяжёлым, холодным и носким полотном. Забористая трескотня бойких кумушек-кухарок то нарастала, то стихала в зависимости от того, дома ли хозяин, взгляды бородатых фей предрекали новобрачной недоброе, а иная прекрасная прачка, соблазнённая и покинутая Дикарём, стоило тому отправиться на охоту, заливалась горючими слезами у источника.
Сам Дикарь, большей частью человек воспитанный, поначалу неплохо обходился со своей просвещённой благоверной. Однако Сидо, окружённая в новом доме лишь слугами, фермерами себе на уме да пропитанными вином и кроличьей кровью егерями, за которыми по пятам стлался волчий дух, испытывала потребность в друзьях, в весёлом дружеском общении. Сам Дикарь мало и свысока общался с подчинёнными. От полузабытого дворянства в нём остались надменность, манерность, грубость и желание иметь слуг; прозвище его свидетельствовало лишь о пристрастии к одиноким прогулкам верхом, к одинокой, без собаки и компаньонов, охоте и о немногословности. Сидо же была болтушкой, шутницей, егозой-непоседой, нежной и деспотично-самоотверженной в доброте. Она украсила большой фамильный дом, приказала побелить тёмную кухню, сама приглядывала за приготовлением фламандских блюд, начиняла пироги виноградом и ждала своего первенца. В перерыве между двумя охотами Дикарь улыбался ей и исчезал. Возвращался к своим виноградникам, сырым лесам, задерживался в придорожных кабаках, где всё черным-черно вокруг длинной свечи: и балки, и прокопчённые стены, и ржаной хлеб, и вино в железных кружках…
Но всему приходит конец – нововведениям в меню, борьбе за чистоту и терпению; исхудавшая от одиночества Сидо стала плакать; Дикарь заметил следы слёз, в которых она ему не признавалась.