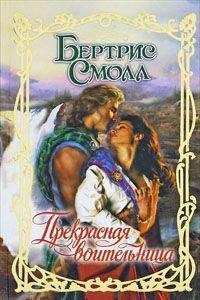Ознакомительная версия.
Северьян вздохнул, пожал плечами и полез в скирду. Через несколько минут, доев картошку и затоптав угли, Владимир отправился за ним. А через два дня оба были в Смоленске, на базарной площади, где Северьян чувствовал себя как рыба в воде. Покрутившись по рядам, он исчез ненадолго из поля зрения Владимира, вернулся с еще горячим бубликом, разломил его пополам и, отмахнувшись от вопроса о способе приобретения бублика, объявил:
– Идемте, Владимир Дмитрич, там возы с солью разгружают, помощь нужна.
Вскоре они таскали, шатаясь, огромные семипудовые кули с солью от возов в купеческий лабаз, а через час у Владимира ныли все кости, но в кармане лежали два гривенника – за него и за Северьяна. В тот же вечер, в ночлежке, стоившей пятак за нары, было решено: до осени подзаработать денег, а на зиму податься в Крым. С тем и улеглись спать. И уже в полудреме Владимир услышал задумчивый шепот Северьяна:
– А за Яниной вы не сильно убивайтесь, Владимир Дмитрич. Право слово, не стоило из-за нее и из имения сбегать. Шалава она загольная, только и всего. Знаете, сколь я таких перевидал? И благородных, и гулящих, и купеческого званья – разных… Они-то тож не виноваты, что тут сделаешь, ежели одно место плохо зашито. Ваш батюшка с ней еще лиха-то хлебнет.
Владимир хотел было велеть ему замолчать, но в душе он чувствовал, что Северьян в чем-то прав, и поэтому просто не стал ничего отвечать и прикинулся спящим. А через полминуты уже не надо было и прикидываться.
В Крым они прибыли в начале осени, в те бархатные дни, когда бешеное солнце уже не палило пыльную, раскаленную землю, не жгло виноградники и не делало морскую воду у берегов такой, «что хоть кашу в ней вари». Стояли теплые сухие дни, базары были завалены черным и красным, исходящим соком виноградом, арбузами, дынями, уже отходящими персиками и сливами. Море было тихим, спокойным, выглаженным. В первые же дни пребывания здесь Владимир понял, что весь Крым забит такими же босяками, приехавшими из холодной России зимовать. Работой они с Северьяном не брезговали никакой: грузили арбузы на набережной, разгружали тяжелые баркасы с рыбой, работали на стройке у рыбного промысловика, плавали с рыбаками-греками в Балаклаву за кефалью, сторожили баштаны с тыквами, работали на соляных промыслах, а Северьян даже умудрился на полмесяца устроиться вышибалой в публичный дом, откуда ушел с большой неохотой и только потому, что боялся оставлять барина одного. Но бояться за Владимира не надо было. Через два месяца бродяжничества его мышцы, и без этого хорошо тренированные, стали чугунно-литыми, молодое сильное тело не боялось никакой работы, Владимир легко и быстро засыпал как в темной, вонючей, полной блох портовой ночлежке, так и прямо на пустом пляже, на наспех расстеленном на песке половике. И однажды, после целого дня работы в порту под жарким солнцем, лежа на плече у полтинничной проститутки Катьки по прозвищу Ефрейтор в ее маленькой душной комнатке, в окно которой заглядывала рыжая луна, Владимир понял, что совершенно счастлив. Счастлив, не имея в двадцать три года ни крыши над головой, ни малейшей уверенности в завтрашнем дне, ни денег, ни документов. Счастлив – после долгих лет безрадостного учения, осточертевшей, никому не нужной службы в полку. Счастлив – так и не поступив в Военную академию и твердо зная, что теперь уже не поступит никогда. Только сейчас он понял, что никакой другой жизни ему не надо, – только бродить вместе с Северьяном по теплым крымским городам, работать, как неграмотный мужик, наращивая крепость мускулов, жечь под солнцем спину и плечи, спать с проститутками, которые для него теперь ничем не отличались от знакомых барышень и даже от Янины, которую Владимир теперь уже почти не вспоминал. И не иметь над собой никакого начальства, не бояться никого, кроме полиции, и не убегать ни от кого, кроме нее же. Садиться в тюрьму Владимиру категорически не хотелось, и он потребовал с Северьяна страшной клятвы: не воровать ничего.
Северьян поначалу ныл и взывал к Владимирову здравому смыслу:
– Ну, как же это так «ничего», ваша милость? Что, и бублики нельзя? И семечки? И тараньку? А жить как прикажете тогда, Владимир Дмитрич? Ну во-от, затянул монах отходную: «Работай…» Не всегда же работа есть, что же – с голоду дохнуть? Воля ваша, несогласный я! Сами вы как знаете, у вас и привычки нету, а я…
– А ты сядешь, дурак, в тюрьму. И куда я денусь тогда? Что я без тебя-то? – приводил убийственный аргумент Владимир, и Северьян, надувшись, умолкал. Слова он давать не стал, но довольно долгое время и в самом деле ничего не крал, и понемногу Владимир успокоился. От прежней жизни ему осталась лишь записная книжка в потрепанном кожаном переплете, своего рода путевые заметки, куда Владимир, если было время, записывал кое-какие события, происходящие с ними. Для чего он это делает, Владимир не задумывался.
За четыре года вольной жизни они прошли Россию вдоль и поперек. Зимовали в южных городах, в Бессарабии, в Крыму, Одессе, надолго застряли на Кавказе и успели даже поучаствовать во Второй Крымской кампании, записавшись в полк вольноопределяющихся на Гурзуфе. Северьян поначалу сопротивлялся, но зимовать как-то надо было, а при знакомой им обоим военной службе, по крайней мере, не надо было каждый день искать себе работу и пропитание. Прослужили, впрочем, оба только до весны: из полка пришлось срочно бежать после того, как в казармы пригнали роту новичков, и в их командире Владимир узнал своего бывшего товарища по юнкерскому училищу. Но вскоре последовал Сан-Стефанский мир, война закончилась, близилось лето, и друзья, посовещавшись, отправились в Россию.
С театральными актерами Владимир познакомился в Костроме, на ярмарке. Они с Северьяном прибыли в город на рассвете, и Северьян, бывавший тут и ранее, тут же убежал искать каких-то старых знакомых, а Владимир бродил по торговым рядам, раздумывая, чем заняться. Деньги у них были, только вчера они с Северьяном сошли с парохода «Святая Мария», куда нанялись матросами и грузчиками на весь путь следования от Астрахани до Костромы, и капитан оказался честным человеком, заплатив им по уговору все до копейки. Поэтому необходимости в заработке не было, и Владимир, закутавшись в недавно приобретенную на развале, почти новую синюю поддевку и надвинув на лоб военного образца картуз, неспешно путешествовал по рядам с арбузами, тыквами, соленой рыбой, калачами и дубленой кожей.
Внимание его привлек человек лет тридцати, высокий, красивый брюнет с тонким, хорошо выбритым лицом столичного жителя, испорченным, впрочем, явными следами вчерашней попойки. Очень странен был наряд брюнета: поверх светлых летних брюк со штрипками была надета нелепая женская кофта в зеленых разводах, а поверх кофты – мешковатый, цвета рыжего кота пиджак с отвисшими карманами. Вместо шляпы на господине красовался великолепный бархатный берет – из тех, которые в оперных постановках носят венецианские дожи и купцы. Рассматривая странного человека, деловито приценивающегося к соленым огурцам, Владимир вдруг заметил, что не один заинтересовался этим персонажем: около брюнета терся мальчишка лет пятнадцати, в сатиновой потертой рубахе, с выгоревшей головой и блеклыми глазами, делающими еще более невыразительным плоское сонное лицо. Моментально вычислив карманника, Владимир подошел ближе, занял позицию за ларьком с сушеной рыбой и приготовился наблюдать. Он не ошибся: уже через несколько минут мальчишка притерся вплотную к брюнету в венецианском берете, на миг прильнул к нему сзади, бормотнул: «Звиняйте, барин…» – и юркнул между рядами, на ходу набирая скорость.
Ознакомительная версия.