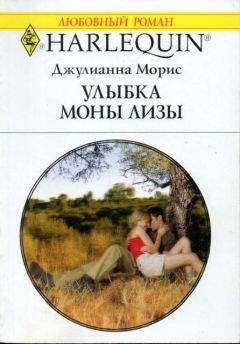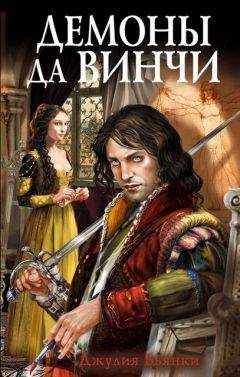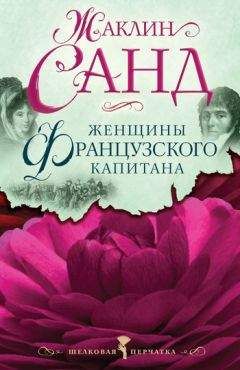Ознакомительная версия.
Ивейн. Это имя подошло бы русалке, а не холодной язвительной женщине. Хотя русалка тоже наверняка не очень тепленькая.
Эта мысль заставила виконта рассмеяться.
…Еще позже, сидя у камина в уютном кресле и потягивая из бокала белое вино, Сезар никак не мог отделаться от образа графини де Бриан. Он уже прочитал газеты, причем дважды, чтобы не упустить ничего важного; разобрал со словарем страничку из сборника стихотворений русского поэта Пушкина, чьим поклонником давно являлся; и все же воспоминание о взгляде серых глаз Ивейн не покидало его.
Если бы она была другой, может, он бы и рискнул предложить ей ухаживания… Но сейчас это небезопасно. Совсем небезопасно. В первую очередь для нее.
Бедная графиня! Единственный мужчина, который заинтересовался ею хотя бы из любопытства, думает о том, что приближаться к ней не стоит; а еще размышляет о фасоне ее платья и его цвете.
Женская мода всегда казалась Сезару непостижимой причудой природы. Сколько он себя помнил, она менялась; мужская тоже претерпевала изменения, однако не такие резкие, обошлось без потрясений. В начале века в эпоху ампир в моде были естественность и простота. Даже косметического эффекта дамы пытались достичь естественными способами: если требовалась бледность – пили уксус, если румянец – ели землянику. От земляники вреда не бывало, а вот уксус преподносил красоткам неприятные сюрпризы. На некоторое время из моды тогда вышли даже ювелирные украшения. Считалось, что, чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в драгоценных камнях и золоте. Белизна и нежность рук во времена ампира так ценились, что даже на ночь надевали перчатки.
Так как платья в ту эпоху, склонную к подражательству античным временам, делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. «Журнал де Мод» в 1802 году даже рекомендовал своим читательницам посетить Монмартрское кладбище, чтобы посмотреть, сколько юных девушек стали жертвами «нагой» моды. Парижские газеты пестрели траурными хрониками: «Госпожа де Ноэль умерла после бала, в девятнадцать лет, мадемуазель де Жюинье – в восемнадцать, мадемуазель Шапталь – в шестнадцать!» За несколько лет господства этой экстравагантной моды умерло женщин больше, чем за предшествовавшие четыре десятилетия. Мать рассказывала об этом Сезару. Даже кровавая революция не смогла переплюнуть простую моду. И только благодаря египетскому походу Наполеона в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора – Жозефина.
В двадцатых годах фигура женщины напоминала песочные часы: округлые «вздутые» рукава, осиная талия, широкая юбка. Это виконт помнил: такие платья носила его мать, слывшая большой модницей. В моду тогда вошел корсет. Талия должна была быть неестественной по объему – около пятидесяти пяти сантиметров. Настоящее испытание для тех женщин, кого природа наградила пышной фигурой. Ради красоты дамы готовы были терпеть разные неудобства: широкие поля дамских шляпок, которые свисали на глаза, и передвигаться приходилось едва ли не на ощупь, длинные и тяжелые подолы платьев… Сезар помнил ехидные замечания матери, в разговорах с отцом прохаживавшейся насчет причуд моды; сама она, будучи женщиной не слишком хрупкой, но состоящей в счастливом браке, могла позволить себе наплевать на осиную талию. А вот другие – нет. В авторитетном британском журнале «Ланцет» в двадцатые годы было высказано мнение, что в мышечной слабости, заболеваниях нервной системы и других недугах женщинам стоит винить вес своих платьев, составлявший около двадцати килограммов. Нередко дамы путались в собственных юбках и вывихивали лодыжки, наступая на подол. Но все это делалось ради одного – красоты.
А для графини де Бриан моды словно не существовало. То есть она была: Ивейн носила корсет, да и платья явно не достались по наследству от матери. Они шились у современных парижских портных. И все же Сезару казалось, будто графине все равно, что на ней надето. И ему почему-то это не нравилось, он не мог объяснить – почему. Может быть, из-за собственного стремления к элегантности и совершенству, а в этих тусклых платьях Ивейн была какой угодно, но не совершенной.
Следующий день, среда, двадцать седьмое июля, прошел лениво и, как и предыдущий, практически бесплодно. Сезар нанес несколько визитов людям, которые знали Алексиса де Шартье, однако не узнал от них совершенно ничего нового. Большинство его старых друзей находились в ссылке или же были казнены, а не слишком близкие знакомые ничего особенного не могли о нем сказать. То же самое с Фредериком: поверхностный человек, весельчак, тративший доставшиеся от отца деньги с расточительностью, присущей людям, всю жизнь прожившим в роскоши. Все недоумевали из-за смерти жертв Поджигателя, однако никто не сообщил Сезару ничего такого, из чего можно было бы выстроить теорию. Четверг, двадцать восьмое июля, также не принес сюрпризов. Зато вечером, если верить журналисту, ожидались новости, и виконту не терпелось их услышать, чтобы сдвинуться наконец с мертвой точки.
И чем ближе, словно громадный дымчатый кот, подкрадывался вечер, тем сильнее хотелось, чтобы он наступил: неторопливые разговоры за чаем в простой гостиной, лицо графини де Бриан, освещенное светом свечей, и шутки Ксавье Трюшона. Казалось бы, всего четыре дня прошло с того момента, как Сезар заинтересовался этим делом; но эти дни вместили в себя так много, что казались четырьмя неделями. Одного виконт опасался, что Поджигатель нанесет следующий удар, и снова невозможно будет его вычислить, снова невозможно узнать, что за человек, так ненавидящий людей, стоит за всем этим.
К дому графини коляска Сезара подкатила в сумерках; виконт вышел и огляделся, надеясь, что журналист тоже спешит сюда, однако Трюшона не наблюдалось.
Ивейн ждала виконта за уже накрытым столиком, и Сезар, благодарно улыбнувшись, сел на стул с овальной спинкой, обтянутый атласом в неброский цветочек.
Они с графиней обменялись новостями – вернее, отсутствием оных, – и разговор потек на иные темы, которые, казалось, возникали сами собой. Этот вечер совсем не был похож на предыдущий проведенный вместе, и виконт не ощущал никакой враждебности со стороны Ивейн. Возможно, за прошедшие дни она смирилась с тем, что этот мужчина, которого она считает весьма нахальным, будет присутствовать в ее жизни какое-то время; возможно, что-то из слов Сезара дошло до нее, так как сегодня платье на графине было голубым, в еле заметную полоску, – просто, но уже более элегантно, чем раньше. И еще виконт порадовался, что графиня не следует моде и не затягивает себя в корсет, доводя до самоубийства, да и изысканная бледность ей несвойственна. На щеках Ивейн цвел здоровый румянец сельской жительницы, который не смогли уничтожить даже годы в Париже. Впрочем, постоянно графиня в столице не находилась, на время, когда в городе невозможно было оставаться из-за волнений, уезжала к отцу в Прованс.
Ознакомительная версия.