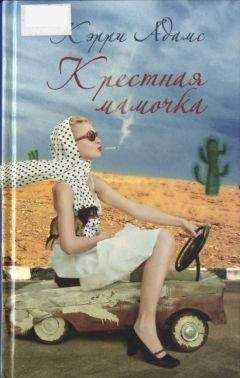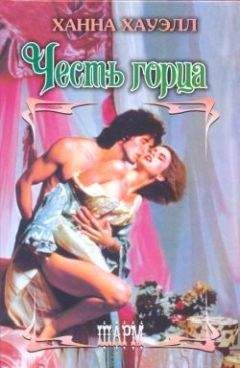Все, родной мой, с моим благословением живи надеждой на лучшее. Даст Бог — война скоро закончится.»
«Приехав в город, я полюбила гулять в Летнем саду с Анютой, мы бродим по аллеям среди деревьев, позолоченных осенью, я собираю охапки кленовых желтых листьев, но когда приношу домой — они засыхают и скручиваются, теряя прелесть. Это очень грустно и наводит на размышления об осенней жизни, о конце жизни. Будим ли мы любить друг друга, став стариками? Какова она, эта любовь стариков? Ощущают ли они себя внутри старыми, или по-прежнему душа их остается молодой и чувства — такими же, как в молодости? Как это, должно быть, печально: чувствовать бессилие перед временем, любить и не иметь возможности проявить свою любовь. Я также печальна оттого, что не могу выказать свою молодую и страстную любовь, разделенная войной с моим любимым. Будут ли переданные мной в письме поцелуи так же сладостны для тебя, как если бы мы были рядом? Если да, то я целую тебя тысячу раз!»
«С Рождеством Христовым тебя, милый мой! Вот уже второй год мы в разлуке, а сердце мое так и не научилось жить одно. Помнишь ли ты первую ночь, что я провела на гастролях в Берлине в некоем пансионе? К утру я почувствовала, что мое сердце не одиноко теперь и обрело вечного спутника. Как же сейчас страдает оно вдали от тебя! Ах, хотя бы на день отпустили тебя, тебе нужен отдых. Как хватает тебе сил жить этой противоестественной жизнью, которую придумали сами мужчины, лишив себя всех простых радостей и любви! Без вас вырастают дети, старятся девушки без женихов, женщины томятся без любовных объятий, потому что отцы, женихи и мужья заняты ужасным и непонятным делом. И, что страшнее всего, остальные живут, как жили, словно война идет на Луне, и мы все не имеем никакого касательства к ней. Ты видишь, дорогой мой, какой я становлюсь раздражительной и сварливой. Причин этому несколько. Главная — моя тоска по тебе. Вторая — в том, что я узнала, что моя мечта станцевать «Жизель» хотя бы в благотворительном спектакле не осуществится, потому что г. Кшесинская изъявила готовность репетировать роль для апрельского благотворительного спектакля в пользу санитарных организаций Великой Княгини Марии Павловны. Конечно же роль отдали ей. Третья же причина вытекает из второй и заключается в том, что Фокин начал серьезно уговаривать меня ехать на гастроли, ссылаясь на то, что это будет единственной возможностью станцевать и Жизель и Франческу да Римини в балете «Франческа», поставленном Фокиным два месяца назад и не имеющем успеха в нашем театре в исполнении госпожи Егоровой. Во мне теперь борются желание исполнить все это, продемонстрировав результат многомесячного труда, и страх отлучаться надолго из России, чтобы не пропустить встречу с тобой. Страха ехать по военной Европе у меня нет, предложили два пути: из Одессы морем в Констанцу и через Бухарест спуститься к Адриатическому морю, затем в Италию и оттуда — в Монте-Карло, другая дорога — через Стокгольм в Осло и оттуда морем во Францию. Второй путь мне нравится больше, тем более что английский военный флот гарантирует полную безопасность морского пути. Но, Боже мой, как я могу решиться на поездку, потеряв надежду увидеть тебя! Ах, если бы от меня все зависело, я отказалась бы от поездки, чтобы ты мог приехать в Петроград и немного отдохнуть от войны. Только ты можешь это решить, зная обстоятельства. Реши все за меня!»
«Андрей, я послала тебе вчера письмо, взвалив на тебя свои проблемы, вызванные расшатавшимися нервами, а сегодня уже жалею. Не надо думать об этом. Хочешь, я развлеку тебя рассказом о прекрасно проведенном вечере, который мне подарила Екатерина Федоровна? Зная от Ани о моем увлечении, она пригласила меня на поэтический вечер, устроенный в честь поэтессы Цветаевой, которая приехала на Рождество в Петроград. Вечер был в доме инженера-кораблестроителя, который строил знаменитый броненосец. Были еще Городецкий, Есенин, Мандельштам и — Михаил Кузмин, остальных я плохо знала. Сначала были общие разговоры, Марина Ивановна (которая оказалась всего на два года старше меня) беседовала со старшим сыном хозяина Сергеем, вернувшимся недавно из путешествия по Востоку. Мне очень хотелось к ней подойти, но я не решалась прервать их разговор. В результате я сидела в уголке, наблюдая за происходящим. Там меня нашел коллега Сергея, Александр Петрович Горин, который начал жаловаться мне, что из-за войны пришлось прекратить экспедицию, изучающую финикийский город Тир, находящийся теперь на территории Турции, а в древности знаменитый не менее Трои. Завоеван он был только один раз — Александром Македонским. Я в свою очередь пожаловалась, что из-за войны потеряла связь с Европой и не могу гастролировать. Мы беседовали о путешествиях, о Месопотамии и Древней Элладе, и тут он сказал мне, что проездом через Париж видел один маленький балет, который был совершенно эллинский. «Послеполуденный отдых фавна»! — сказали мы хором друг другу и засмеялись радостно. Беседа с Александром Петровичем доставила мне много удовольствия (не ревнуй, милый!), потому что я люблю узнавать что-нибудь новое, и еще, у нас оказались одинаковые вкусы. Тут хозяин дома привел Марину Ивановну Цветаеву и мы все стали слушать ее стихи. Первое же ошеломило меня. Я тут же стала думать о тебе. Называется оно «Германия» и сразу начинается так:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам,
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь», —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!
И дальше еще в шести куплетах она описывает все, что дорого ей в Германии: Канта и Гете, Фрейбург и Рейн, и скалу, где расчесывает кудри Лорелея. Все это заслоняет ей Кайзера и не дает развиться злобе. Я подумала, какую смелость нужно иметь, чтобы открыто признаться в любви к стране, которую все ненавидят, забыв, сколько она принесла миру хорошего. Тебе это известно лучше многих. Реакция слушателей была такой же, как у меня, единственное возражение было словам «благоуханный край», что скорее подходит Аравии или Италии. «А липы, а ели Шварцвальда? А Харц? Это же пахнет смолой на солнце!» — возразила она и все вынуждены были согласиться. Все, что она читала в этот вечер — было замечательно. Потом Есенин (я знала только его стихи о деревне, похожие на песни, а сам он чудо как хорош, золотоволосый и кудрявый херувим) прочитал свою «Марфу Посадницу» и удивил несказанно мощью природного, можно даже сказать — народного темперамента. Помню только такие строчки: «Как московский царь — на кровавой гульбе — продал душу свою — Антихристу». Эти стихи запретила цензура. Потом Осип Мандельштам, полузакрыв глаза, почти пропел: