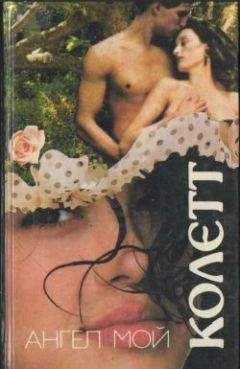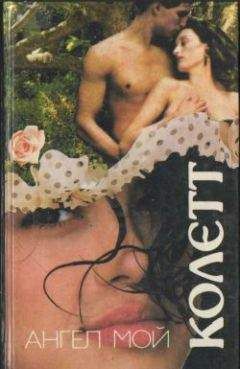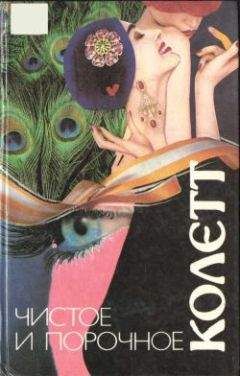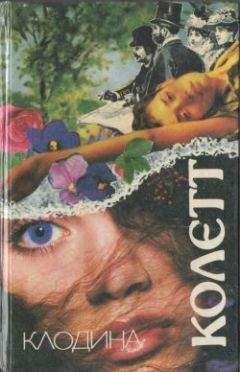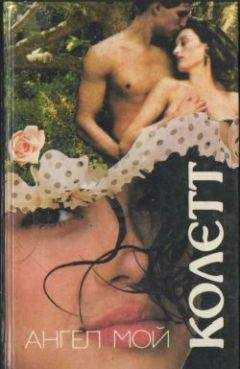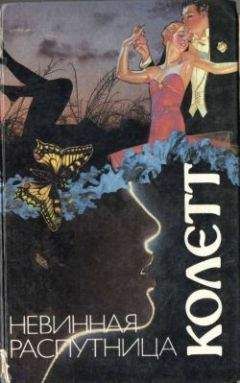Оставшись один, он тяжело уронил голову на подушку и сомкнул веки.
– О Господи! – воскликнула Подружка, вернувшись в комнату. – Краше в гроб кладут! Я сварила кофе. Хочешь? От одного аромата уже чувствуешь себя в раю.
– Да. Сахару два кусочка.
Он говорил отрывисто, и она повиновалась с таким смирением, словно в глубине души упивалась ролью рабыни.
– Ты ничего не ел за обедом?
– Ел.
Ангел выпил кофе, опершись на локоть. Своеобразный балдахин, сооружённый из восточной портьеры, нависая над Ангелом, затенял точёный лик слоновой кости с вкраплениями эмали и всю фигуру в дорогих шелках, лежащую на старом шерстяном покрывале, вытертом и запылённом.
Подружка расставила на медном столике кофе, горелку для опиума под стеклянным колпаком, две трубки, горшочек с какой-то смесью, серебряную табакерку для кокаина, флакон с плотно пригнанной пробкой, которая тем не менее предательски пропускала холодный запашок эфира. Она присовокупила к этому колоду гадальных карт, футляр с картами для покера, пару очков и уселась рядом с удручённым видом сиделки при тяжелобольном.
– Я же говорил тебе, – рассердился Ангел, – что мне ни к чему все эти причиндалы.
Как бы оправдываясь, она театрально выставила вперёд тошнотворно белые руки. Дома она избрала для себя, как она выражалась, «стиль Шарлотты Корде»: распущенные волосы, белые батистовые платки, накинутые поверх пыльного траурного одеяния, – в таком виде, одновременно величественная и падшая, она выглядела вполне в духе многих обитательниц приюта Сальпетриер.
– Это просто так! На всякий случай. Я люблю, чтобы мои маленькие сокровища были у меня на виду и в полном порядке. Орудия грёз! Арсенал дурмана! Золотые ворота иллюзий!
Она покачала головой и возвела к потолку сокрушённый взгляд бабушки, которая разоряется на игрушках. Но Ангел не прикоснулся ни к одному из её снадобий. Он сохранил некое уважение к своему телу, и его презрение к наркотикам имело ту же природу, что и отвращение к публичным домам.
На протяжении многих дней, которые он перестал считать, он ежевечерне приходил в это тёмное логово, где ждала его порабощённая Парка. Он оплачивал без особой охоты, но и без возражений стол, кофе и напитки Подружки, равно как и свои собственные запасы сигарет, льда, фруктов и сиропов. Он велел своей рабыне купить для него роскошное японское кимоно, благовония, тонкое мыло. Ею владела не столько алчность, сколько упоение сообщничеством, она служила Ангелу с усердием, в котором оживало её рвение прежних лет, восторженная и преступная готовность раздеть и выкупать девственницу, нагреть крупинки опиума, налить спиртное или эфир. Но самоотверженность её пропадала втуне, ибо её странный гость не приводил женщин, пил одни сиропы и, ложась на старый диван, коротко командовал:
– Рассказывай!
Она начинала говорить, и ей казалось, будто она рассказывает что ей вздумается. На самом же деле он направлял – то грубо, то незаметно – мутный и медлительный поток её воспоминаний. Она говорила словно швея-подёнщица – без остановки, с дурманящей монотонностью, как женщины, занятые однообразной сидячей работой. Но она никогда не шила, обнаруживая аристократическую беспечность бывшей проститутки. Не переставая говорить, она закалывала складку на дырке или на пятне и вновь принималась работать над гадальными картами или над пасьянсом. Она надевала перчатки, чтобы размолоть кофе, купленный приходящей прислугой, но не брезговала брать в руки засаленные карты, потемневшие от грязи.
Она говорила, и Ангел слушал усыпительный голос, шарканье ног в мягких войлочных шлёпанцах. Он возлежал в роскошном халате посреди запущенного жилища. Сиделка его не осмеливалась задавать вопросы.
В его аскетизме она угадывала мономанию, и ей этого было довольно. Она врачевала некий недуг – загадочный, но всё же недуг. На всякий случай и как бы для проформы она пригласила хорошенькую молодую особу, похожую на девочку и профессионально весёлую. Ангел обратил на неё не больше внимания, чем на комнатную собачку, и сказал Подружке:
– Надеюсь, теперь колонка светской хроники закрыта?
Больше ему не пришлось отчитывать её и призывать к соблюдению тайны. Однажды она вдруг оказалась недалека от банальной истины и предложила Ангелу позвать в гости одну или двух подруг добрых старых времён – например, Леа… Он и глазом не моргнул.
– Никого! Иначе ноги моей здесь не будет. Прошли две недели, мрачные, размеренные, как в монастыре, но это не было в тягость ни одному из затворников. День у Подружки занимали старушечьи развлечения: покер, виски, подпольные притоны, перемывание косточек, завтраки в духоте и полумраке какого-нибудь ресторанчика с лиможской или нормандской кухней… Ангел появлялся с первыми сумерками, иногда насквозь промокший от дождя. Подружка слышала, как хлопала дверца такси, и уже не спрашивала: «Почему же ты всегда без машины?»
Уезжал он за полночь, обычно ещё в темноте. Во время его долгих пребываний на алжирском диване Подружка иногда замечала, как он проваливается в сон и на несколько секунд застывает, словно пойманный в капкан, со свёрнутой шеей, уронив голову на плечо. Сама она, забыв об отдыхе, ложилась спать только после его ухода. Однажды на рассвете, пока он не спеша складывал обратно в карманы свои вещи – ключ на цепочке, бумажник, маленький плоский револьвер, носовой платок, золотой портсигар, – она отважилась спросить:
– Жена не требует у тебя объяснений, когда ты так поздно приходишь?
Ангел поднял увеличенные бессонницей глаза, затемнённые длинными ресницами.
– Нет. С чего бы? Она же знает, что я ничего дурного не делаю.
– Да уж, ты и вправду невинен как дитя… Ты придёшь вечером?
– Не знаю. Посмотрим. Но ты будь готова к моему приходу.
Он бросал последний взгляд на все эти светловолосые головки и голубые глаза, украшавшие стену его убежища, и уходил, чтобы снова возвратиться к вечеру.
Когда он – как ему казалось, очень ловко – наводил разговор на жизнь Леа, он исправно очищал повествование Подружки от скабрёзного мусора, который создавал лишние длинноты. «Дальше, дальше…» Он цедил эти слова сквозь зубы, и только шипящий звук «ш» нарушал и подхлёстывал монолог. Ангел хотел получать воспоминания без яда, безобидные описания и славословия… Он требовал от мемуаристки документальной верности фактам и сердито уличал её в неточности. Память его фиксировала даты, расцветки, названия тканей, мест, имена портных.
– Что такое поплин? – вдруг спрашивал он.
– Поплин? Эта такая материя, шёлк с шерстью, сухая, понимаешь, которая не льнёт к телу…