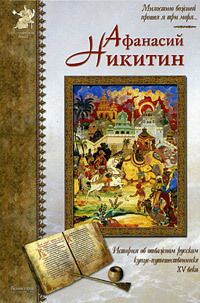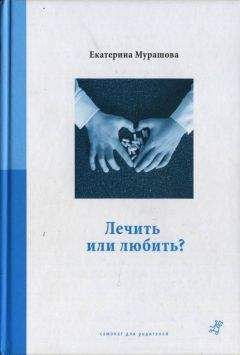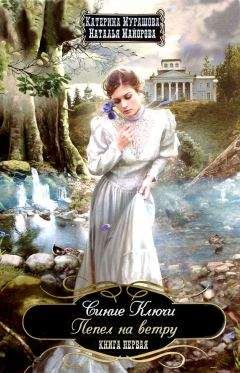– А почему же мне не быть здесь? Ведь все равно, со мной или без меня, дело идет своим чередом. Занятно быть на острие истории.
– А коли смерть? Небытие? Как это у вас согласуется? Или вы в Бога верите?
– Не верую с четвертого гимназического класса. Хотел бы веровать, пожалуй, да не выходит никак. А небытие чем же страшно? Кому бояться-то, коли меня уже не будет? Хотя, конечно, любопытно было бы взглянуть, как это окажется, когда все здесь наконец-то перевернется вверх тормашками. Заранее ясно, что сюрпризов будет – тьма.
– Когда ж это станет, по-вашему?
– Ну не сейчас еще, однако, я полагаю, скоро. Мы с вами, если исключить насильственную смерть, должны дожить.
– В нашем нынешнем положении, товарищи, трудно исключить возможность насильственной смерти, – с какой-то сумрачной радостью откликнулась со своего рабочего места женщина. – Я бы сказала, что она где-то даже подразумевается.
– Может, пока уже довольно смертей? – весьма непоследовательно поинтересовался Камарич, осторожно лопаточкой добавляя в чашку голубоватый порошок.
– Крови должно быть столько, чтобы наполненная ею река смыла всю гниль старого мира, – немедленно ответила женщина. – Если нужна моя кровь, я готова.
Камарич тяжело вздохнул, помолчал, потом сказал, подчеркнуто обращаясь к Январеву:
– А ваше мнение?
– Я, видите ли, должен нынче умереть, – поколебавшись несколько мгновений, ответил мужчина.
Темные глаза женщины в синем платье блеснули золотистыми огоньками восторга. Служащий лаборатории досадливо поморщился. До нынешней минуты Январев нравился ему больше прочих товарищей. К тому же по движениям рук, уверенно манипулировавших лабораторной посудой и реактивами, он почти угадал в нем коллегу.
– Вот даже как? Непременно нынче? – с иронией переспросил Камарич. – А отложить никак невозможно?
– Нет. Таково, можно сказать, стечение нравственных обстоятельств.
– Ну что ж… – Камарич поднял острые плечи к ушам и задумался в этом положении, похожий на большую летучую мышь, сложившую крылья. – Это сильный жест, пожалуй. Я имею в виду не ваше решение даже, а то, что вы это сейчас перед нами вслух произнесли. У вас теперь такая своеобычная позиция получается… У меня в Фидлеровском училище, по всей видимости, погиб лучший друг. Когда я узнал, то именно хотел бы быть верующим. Не для себя, для его посмертной судьбы, хотя бы в виде моей временной иллюзии…
Камарич отвернулся и как будто вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб. Если бы в лаборатории не было так холодно, ему можно было бы поверить…
– Я был там.
– Они заплатят за все жертвы, которые пришлось принести трудящимся!
Январев и женщина произнесли это практически одновременно.
– Вы были в Фидлеровском училище?! – возбужденно переспросил Камарич и вперил в Январева подозрительно блестящий взгляд. – Расскажите же, как там было. Я никого не встречал, кто бы толком мог. Мой товарищ – Егор. Егор Головлев, очень высокий, с веснушками, вот здесь…
– Что ж рассказать?
Камарич отставил чашку, в которой пестиком растирал смесь, и развел красивые руки каким-то странно беспомощным жестом, обернув их ладонями вверх. Январев, когда-то любопытства ради прочитавший пару трудов по хиромантии, успел заметить на правой руке Камарича глубокую и длинную линию жизни.
– Опять же вопрос оружия. – Январев с вялой досадой мотнул широким подбородком в сторону лежащих на столе заготовок для бомб и патронов. – Против нас – две роты гренадер Самогитского полка, эскадрон драгун Сумского полка, полиция, жандармы, батарея трехдюймовок. Все, естественно, вооружены по полной. У нас – несколько бомб, маузеры, револьверы, которые вот-вот развалятся от старости. Что еще? Грязный снег, комья мерзлой земли, снаряды залетают в классы и разбивают парты. Несмотря на мороз, очень много желтой пыли. Откуда она берется, я так и не сумел разобрать. Гренадеры стреляют размеренно, залпами, наши отвечают разрозненной дробью. Похоже, будто под дождем марширует кто-то призрачный и огромный…
– Это шагает пролетариат, который в ближайшем будущем неизбежно победит своих врагов, – мечтательно запрокинув бледное лицо, словно в трансе проговорила женщина, внимательно прислушивавшаяся к словам Январева.
– Скажите еще: призрак коммунизма, – сухо усмехнулся Камарич.
– Вашего друга с веснушками я, скажу сразу, не видал, – продолжил Январев. – Темно, неясно, все перебегают от окна к окну, стреляют, ничего не понять. Но товарищи из железнодорожников там были несомненно, вместе со студентами… Когда приняли решение прекратить сопротивление, выходили по требованию безоружными, револьверы оставили в классах. Я и еще несколько товарищей с самого начала были против, звали искать другой выход, как в «Аквариуме», где фактически всех дружинников удалось вывести через Комиссаровское училище… Выйдя, мы даже не успели оглядеться – из переулка вылетел эскадрон драгун. Рубили шашками безоружных, как на учении соломенные чучела. Скрыться некуда – ворота и подъезды закрыты наглухо. Уцелевших, по слухам, отправили в Бутырки. Может быть, ваш друг там… Я сам был легко ранен, притворился контуженным, с помощью товарищей мне и еще двоим из студенческой дружины удалось бежать по дороге…
– Они за все заплатят! За каждую каплю рабочей крови!
– Как это все странно, если подумать…
Женщина и Камарич опять высказались совершенно синхронно, будто репетировали прежде. Служащий лаборатории невидимо улыбнулся бледной бегучей улыбкой. Где-то ухнула пушка, и согласно ей звякнула лабораторная посуда в шкафу.
– Нет времени, товарищи, совершенно нет времени! – Женщина прервала общее молчание и склонилась над столом. – Правильно сказал товарищ Январев – от вооружения зависит сейчас судьба революции. Надо работать.
– Дубасов уже отослал в Петербург телеграмму, что восстание подавлено. Но! Было принято решение сражаться до последнего человека. Но!
Январев увидел, как Камарич подавил невольную улыбку, и отвернулся. Любое движение потрескавшихся губ причиняло боль. Но маленький человечек с большой головой, еще увеличенной из-за грязной, неопрятно наложенной повязки, действительно казался истерически забавен. Январев уже встречался с ним на улице, возле баррикады на Большой Кондратьевской, где тот принял его за шпиона и хотел предать рабочему суду. За прошедшие дни многое изменилось.
В низком подземелье подпольной типографии нечем дышать. Люди кажутся распластанными в воздухе, не касающимися ногами усыпанного гнилой соломой и застеленного досками пола. Лица – с расширенными зрачками и раздувающимися ноздрями, во всех – что-то средневековое и лошадиное одновременно. Серьезный Звулон Литвинов, с ввалившимися глазами и висками, один из руководителей дружинников, докладывает обстановку:
– Пятнадцатого декабря по Николаевской дороге по личному приказу Николая прибыл Семеновский гвардейский полк. Сегодня – Ладожский пехотный. Семеновцы уже обходят Пресню от Брестского вокзала. Орудия установлены на Красной Горке, на Звенигородском шоссе, у Ваганьковского кладбища, на Кудринской площади. За заставой замечены казачьи разъезды.
– Что у нас с оружием?
– Приблизительно двести винтовок и ружей, около трехсот револьверов, полтораста сабель. Благодаря группе химиков (кивок в сторону Камарича и Январева) в наличии штук тридцать бомб и сколько-то патронов. Всего этого решительно недостаточно!
– Что по Москве? С мест?
Звулон нервическим жестом пытается пригладить стоящие дыбом пегие волосы. Тонкие коричневые пальцы дрожат.
– Помощи Пресне ждать неоткуда. Прибыли делегаты из Иваново-Вознесенска, с Коломенского и Сормовского заводов. Говорят, что на серьезную поддержку тамошнего пролетариата рассчитывать нельзя. Войска, в которых были волнения, разоружены и заперты в казармах. Московский рабочий комитет арестован. На улицах – вооруженные черносотенцы.
– Но почему-у?!! – На взвизг, на всхлип, не понять даже, мужчина или женщина.