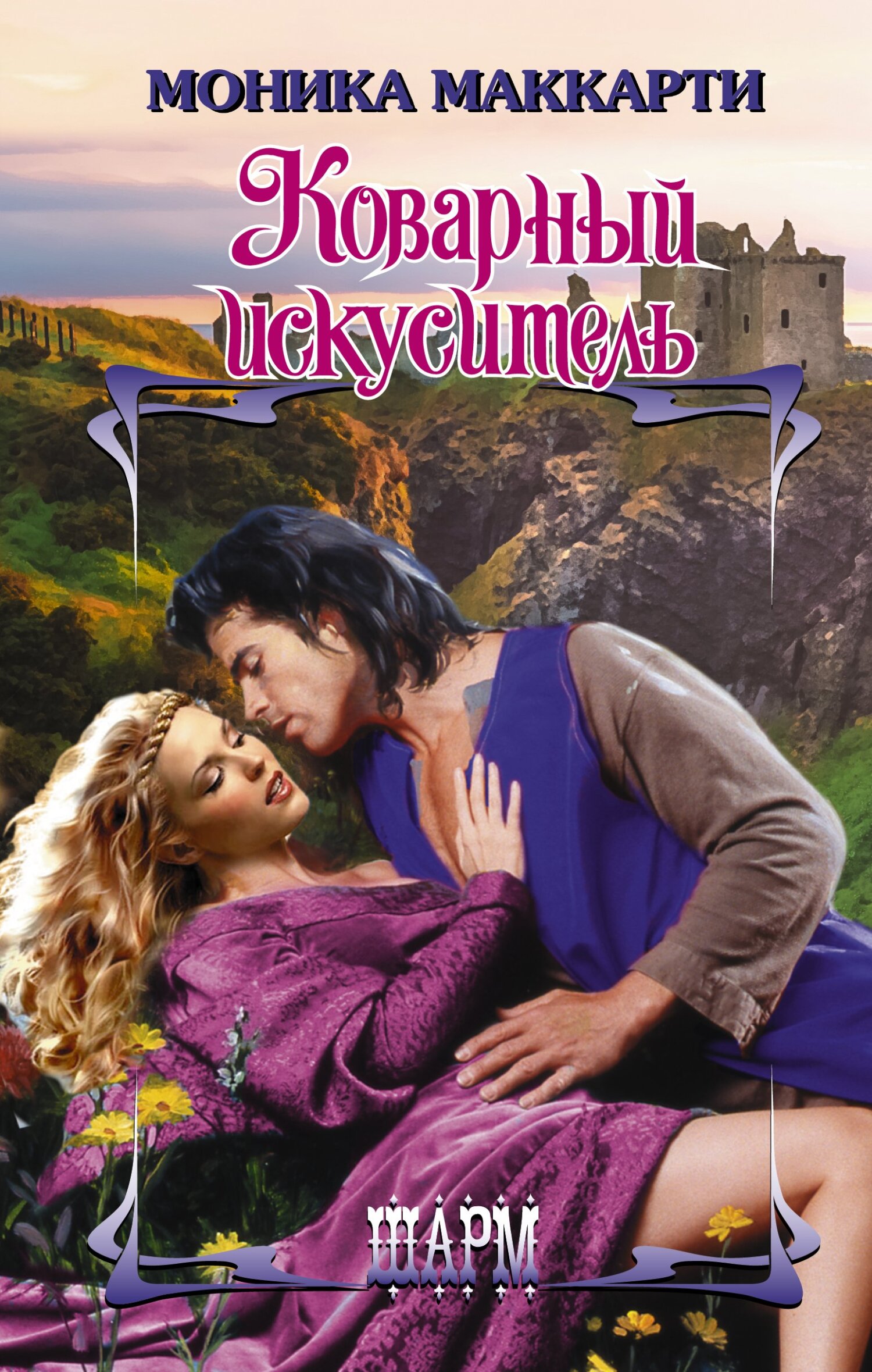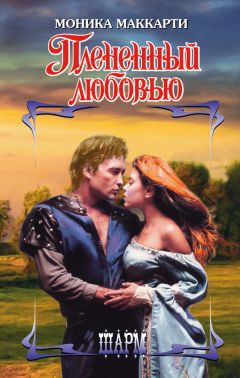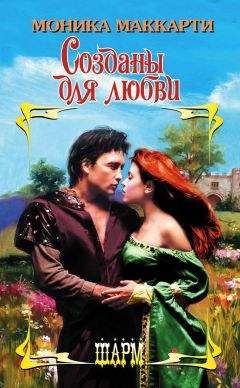на его лице окаменел, – но усилием воли заставил себя расслабиться и даже сумел усмехнуться.
– За нее много бы не дали.
Белла в ужасе ахнула.
– Как вы можете такое говорить?
Он равнодушно пожал плечами.
– Так ведь это правда.
Некоторое время она молча изучала его лицо, и Лахлан понял, что она догадывается, каковы были их отношения с матерью, и не ошибся.
– Какой она была? – тихо спросила Белла.
– Валлийская принцесса, на которую мой отец положил глаз во время одного из набегов и решил забрать себе, следуя обычаю моих норвежских предков держать рабов.
Лахлан под намеренной грубостью старался скрыть, насколько горьки для него воспоминания: прошлое есть прошлое, его не переделаешь.
– И что с ней стало?
Он взглянул ей в глаза, на мгновение замешкавшись, и почему-то решил сказать правду, хоть та и была неприглядной:
– Она покончила с собой после рождения моего младшего брата. Не хотела больше носить бастардов.
Миниатюрная красавица, которая некогда была принцессой, не могла смотреть на них с братом без отвращения, и мальчиков вырастили и воспитали слуги.
Белла дотронулась до его плеча.
– Простите.
Лахлан не нуждался в сочувствии, но ее извинения принял, кивнув, и хрипло рассмеялся, точно пролаял.
– А знаете, она в конце концов победила: перед смертью прокляла моего отца, и проклятие сбылось.
Брови графини сошлись на переносице.
– Что за проклятие?
– Чтобы у него больше не было сыновей. Таким образом один из старейших на Западных островах кланов остался без законного наследника мужского пола.
– Землю могла бы унаследовать ваша сестра, а вы – стать вождем клана, но вы предпочли бросить своих людей. Почему?
«Потому что вассалы стали бы куда богаче своего лэрда». Лахлан не смог удержаться и съязвил:
– Сопровождать графинь гораздо прибыльнее.
Белла обиженно поджала губы, на что он и рассчитывал.
Почему он все время к ней цепляется? Почему его так заботит ее мнение? Как правило, Лахлану не требовалось ни перед кем оправдываться. Он не стыдился того, что делает, и уж точно никому не объяснял причин. Но презрение этой женщины – видит Бог! – задевало. И это ему очень и очень не нравилось.
– Это вы отвезли записку к моей дочери?
Неожиданный поворот его обезоружил, поэтому нужные слова нашлись не сразу.
– О чем это вы? – спросил он наконец.
Белла поняла, что ее вопрос почему-то разозлил его, но это ее не остановило.
– Кто-то отвез весточку моей дочери. Это были вы?
Лахлан смотрел на ее залитое лунным светом лицо и искал то, что вряд ли мог найти.
– Это так важно?
Белла ответила, хотя и не сразу:
– Полагаю, что да.
И тут он испытал настоящее потрясение, увидев в ее глазах то, чего никак не ожидал: любопытство, влечение и самое опасное и соблазнительное – возможность.
Лахлан не верил своим ушам: неужели она говорит всерьез.
Его взгляд переместился на ее губы, голова сама собой склонилась, и – о боже! – ее губы инстинктивно раскрылись ему навстречу. Он что-то пробормотал, проклиная это жаркое, примитивное и острое желание. Он мог бы ее поцеловать, тем более что ему безумно этого хотелось! Он даже чувствовал вкус ее поцелуя на своих губах.
После той ночи на озере Лахлан старательно скрывал свое вожделение, но оно по-прежнему томилось внутри и ждало своего часа. И вот теперь он почувствовал, как оно снова поднимается, хватает его железной рукой, грозя затащить в опасные глубины.
Он протянул руку, медленно, едва коснувшись пальцами ее щеки, – так бережно, словно это была не женщина, а фигурка из тончайшего фарфора.
Сердце встрепенулось в его груди, из горла вырвался стон. О господи! Какая мягкая кожа! Бархатистая, как у младенца. Его большая, огрубевшая в боях рука казалась чем-то инородным по сравнению с этой утонченностью.
Он, едва касаясь, приподнял ей подбородок и, повинуясь колдовскому обещанию в ее глазах, почувствовал, что летит в пропасть, Его губы уже так близко…
Словно обжегшись, он отдернул руку. Что с ним творится, черт возьми? Ему совсем это не нравилось: слишком похоже на… нежность. Но лишь конченый дурак мог вообразить, что между ними что-то может быть. Он не стыдился своего происхождения, социального статуса и репутации, но нужно же смотреть на вещи трезво.
Да, это с ее стороны скорее всего простое любопытство, и не более. Она заинтригована, потому что это для нее внове. Думает, наверное, что увидела в нем нечто такое, что открывает путь к спасению, но в его душе все черно, все выжжено.
Лахлан не хотел давать надежду ни ей, ни себе, поэтому предпочел солгать:
– Нет, я тут ни при чем.
Он заметил разочарование в ее глазах, но приказал себе не реагировать и, отступив на шаг, лишь коротко кивнул:
– Доброй ночи, миледи. Берегите ногу, нас ждут трудные дни.
Сделав вид, что не замечает, как она смотрит ему вслед, Лахман резко развернулся и пошел прочь.
В том, что он солгал, Белла не сомневалась, но не могла понять почему. Это Лахлан отвез письмо к ее дочери. Почему же не хочет, чтобы она знала? Не по той ли причине он не стал ее целовать? Зачем сказал, что убил свою жену? Хотел отпугнуть? Она понимала, что это лишь малая часть истории и Лахлану есть что рассказать.
Разумеется, она бы его оттолкнула: благоразумие наверняка взяло бы верх до того, как его губы коснулись бы ее губ. Она бы справилась с головокружительным желанием, понимая, что нельзя уступать тому странному чувству, что влечет их друг к другу.
Муж дал ей отставку, но его обвинения такой тяжестью легли на душу, что не забыть и годы спустя. Лахлан не может стать ее мужем, а значит, на ее долю остается лишь роль любовницы. И если она допустит это, то станет именно той, кем ее считает Бьюкен.
Слава богу, он отверг ее, чем излечил от всяких иллюзий, не дал совершить ошибку.
Она думала, что видит в нем проявление доброты, но когда сердце ее рванулось ему навстречу: он рассказывал о матери, – поняла, что ее сострадание было ему совершенно без надобности.
Он говорил так бесстрастно, словно речь шла о каком-то малознакомом ему человеке. Сухарь. Бесчувственный чурбан. Только факты! Словно докладывал своему командиру. События детства больше его не трогали. Ничто его не трогало. И будет лучше, если она запомнит это раз и навсегда, даже если захочет забыть – под его напором.
Она сделала глубокий вдох, пытаясь выровнять дыхание и побороть странное стеснение в груди. Боль должна уйти.
Но боль не уходила: