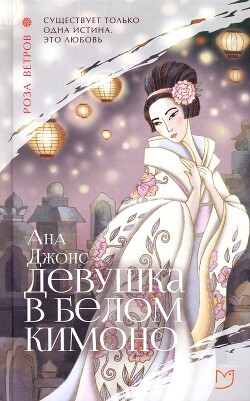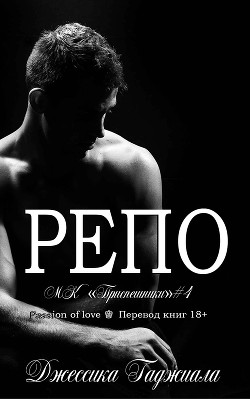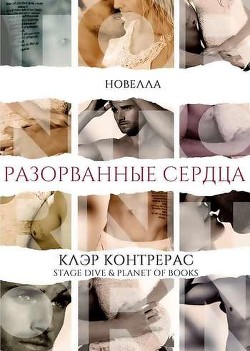Дорога была бесконечной.
Из-за того, что я ношу ребенка, отец несет маленький чемодан, на котором настояла бабушка.
— Лучше иметь свитер и потерпеть его вес, чем не иметь его и терпеть озноб, — сказала она.
Если отец был камнем, то окаасан была водой, умиротворяющей и омывающей его, которая со временем сгладила его острые грани. Теперь же он остался на иссохшем речном русле, ощущая беспощадный жар солнца. Под его глазами залегли тени, а внутри глаз плескалась боль.
Мы оба были виновны в ее смерти.
Он откашливается, но не произносит ни слова. Только вездесущие лисы обаасан поддерживают с нами беседу. Я готова поклясться, что они шепчут нам вслед: «Кто скажет Хаджиме, где тебя искать? Что он скажет, когда узнает, что ты теперь должна заботиться о Кендзи? Что будет, если ты потеряешь его ребенка?»
Я соглашаюсь на эту поездку только ради того, чтобы удостовериться в благополучии ребенка, но я сама не своя от волнения. Успокойся, Наоко. С ребенком все в порядке. Хаджиме меня любит. Он проявит сострадание к Кендзи. И вместе мы сможем обсудить с отцом, что нам делать дальше.
— Наоко, — отец замедляет шаг. Он тяжело вздыхает и останавливается, не дойдя до станции. — Делай все, что тебе скажут, ради сохранения собственного здоровья. Не упрямься. Ты меня понимаешь?
Наши взгляды встречаются. В моем скрыто покаяние, в его — сострадание. Он беспокоится обо мне, но как он относится к моему ребенку? Если я об этом спрошу, то испытаю краткий миг стыда. Если не спрошу — буду стыдиться этого вечно.
— Отец, я... — с чего мне начать? Мне так много надо ему сказать.
И мои колебания лишили меня этого шанса. Его взгляд переместился за меня и снова застыл. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что отвлекло его внимание, и вздрагиваю.
Сатоши?
— Что это значит? — вскидываю я голову.
Отец поднимает руку, чтобы успокоить меня.
— Он думает, что ты заболела, а семейный врач не может приехать на дом, чтобы тебя осмотреть. Сатоши проводит тебя до места.
— Но, отец, я...
— Довольно! — его рука разрубает воздух. — Это не обсуждается, — тон отца снова обретает металл, как у человека, произносящего решающее последнее слово в сложном споре.
Я молча вкладываю все свое недовольство во взгляд. Что бы я ни сказала, будет лишь брызгами на раскаленном камне: напрасными усилиями.
— Подумай о своем брате, о его семье и смирись, — отец ставит мой чемодан и заканчивает уже едва слышно и раздраженно: — Смирись, Наоко.
Смирись.
А когда он смирится с Хаджиме и нашим ребенком? И со мной?
* * *
Поезд идет по живописному побережью Сагамского залива к восстановленной префектуре Канагава, в небольшой город Хирацука, почти полностью разрушенный военными налетами двенадцать лет назад. Его стратегическое местоположение и широкие пляжи сделали его желанной целью для атак, но война окончилась и избавила оставшихся в живых в этом районе от лишений.
Через тридцать минут мы с Сатоши сходим с поезда вместе с небольшой группой людей. До этого момента я не произнесла ни слова.
— Почему вы согласились меня сопровождать? — спросила я, как только моя нога коснулась платформы.
— Тебе не следует ездить одной, — Сатоши перекладывает мой чемодан из одной руки в другую, затем кивает мне, давая знак следовать за ним.
Когда мы направляемся в Бамбуковый роддом, Таке Джосан-чо, в воздухе все еще остается след тумана. Он расположен на окраине простого маленького городка.
— Но почему вас заботит то, как именно я буду ездить? — спрашиваю я, подстраиваясь под его быстрый шаг. Я еще не понимаю, чего я хочу добиться. Может быть, разозлить его, чтобы он вернулся на поезд и уехал. Может быть, просто злюсь на отца, за то что он заставил меня туда поехать. — Вы знаете, что я вышла замуж?
— Да, знаю, — Сатоши останавливается, чтобы пропустить босоногого мужчину на велосипеде, и переходит неровную дорогу.
— И все равно решили выполнить просьбу моего отца?
— Я просто не считаю обязательным ставить его в неловкое положение, — пожимает он плечами.
Если я хотела поставить Сатоши в неловкое положение, то сейчас оказалась в нем сама. Мне ужасно стыдно. Меня обдает волна жара, которая перерождается в злость. Я вздергиваю подбородок и бросаюсь в бой.
— А вы знаете, что я к тому же еще и беременна?
Сатоши останавливается, все еще глядя прямо перед собой.
Я обхожу его и встаю прямо перед ним.
И сейчас я иду не на прием к семейному врачу, как сказал вам отец, а чтобы показаться акушерке.
Расставив все по своим местам, я, довольная, готова вновь шагать по дороге. Вот теперь он может уходить. Я пускаюсь в путь, подхватив свой чемодан, чуть поворачиваю голову и снова вздрагиваю от удивления, потому что Сатоши идет следом за мной.
— В таком случае тебе еще больше нужен провожатый, не так ли? — его брови слегка приподнимаются над прямым взглядом. — Особенно учитывая отсутствие мужа.
По-прежнему держа чемодан в руке, он обгоняет меня.
Кем он себя считает?
— Мой муж сейчас на судне в Тайване, но вернется со дня на день.
Сатоши ничем не лучше обаасан или отца. Я пробираюсь между женщиной с маленьким ребенком и мужчиной в поношенной одежде, чтобы не отставать.
— Так ты не знаешь? — Сатоши оглядывается на меня через плечо. Он глубоко вздыхает и опускает руку в карман, замедляя шаг. — Я как раз думал, скажет ли тебе твой отец. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Помнишь, на отпевании твоей матери?
Я почти ничего не помнила о том дне, и отец ничего мне не говорил.
— Я не знаю подробностей, но напряжение вокруг Тайваня еще больше усилилось, и одно из военных судов США, патрулировавших тот район, попало под обстрел.
— Какой именно корабль? — этот вопрос слетел с моих губ еще до того, как я подумала, что его надо задать. — Какой корабль, Сатоши? — я хватаю его за руку, боясь самого худшего.
— Не знаю, — Сатоши качает головой. — Но не волнуйся, это может означать лишь то, что они прибудут позже, — он кладет руку поверх моей и сжимает ее.
Я выдергиваю свою руку так, словно он меня обжег.
— Пожалуйста, — Сатоши бросает взгляд на мой живот и вздыхает. — Ради благополучия ребенка прими мою дружбу и позволь мне сопроводить тебя до места, — кивком он указывает вперед. — Видишь? Бамбуковый забор вокруг клиники совсем недалеко.
Забор из золотистых перекладин, перевитых друг с другом, убегает вдаль, насколько хватает глаз. Мой взгляд вскидывается на Сатоши при звуке слова, так напоминавшего разговор с отцом: прими и смирись.
— Ради ребенка, — говорю я и пускаюсь в путь, волнуясь и накручивая на палец прядь волос. Разумеется, отец не упоминал о новостях из Тайваня. Зачем? Будь его воля, Хаджиме бы никогда не вернулся. Вдруг вся моя кожа покрывается мурашками. А что, если так оно и будет?
Вход в клинику украшен большими перекрещенными балками и ржавыми скобами. На косяке висит маленький колокольчик, стилизованный под храмовый колокол, но сами ворота открыты. Сатоши распахивает их пошире и делает шаг в сторону, чтобы дальше я шла первой. Из вежливости я берусь за длинный деревянный язычок и звоню колокольчиком один раз, и лишь потом мы входим внутрь. У маленького колокольчика оказался красивый низкий звук, разнесшийся далеко вокруг и возвестивший о нашем прибытии.
Неровная, мощенная галечником дорожка, как змея, извивается между густо растущими деревьями. Дорожка ухожена, кусты вокруг нее подстрижены, но разросшаяся трава подсказывает мне, что ходят по ней не часто. Я иду очень осторожно, чуть не споткнувшись о выступающий камешек. Сатоши протягивает было мне руку, чтобы поддержать, но я успеваю восстановить равновесие и показательно игнорирую его предложение о помощи.
Сквозь деревья уже виднеется бронзовая черепица крыши. Прищурившись, я стараюсь рассмотреть что-нибудь еще.