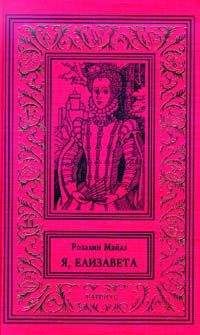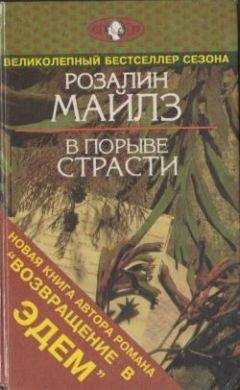А оставшись со своим пьяницей-мужем, без лучших лэрдов и советников, Мария стала все больше полагаться на некоего Риччьо — об этом сообщил мне Трокмортон при следующей встрече с глазу на глаз.
— Риччьо? Кто это?
— Давид Риччьо — ее новый секретарь, она рассорилась с Мэтлендом Летингтоном, своей правой рукой, который был для нее тем же, что Сесил для Вашего Величества.
— Значит, этот Риччьо человек выдающийся?
Судейский или ученый?
— Мадам, это ее музыкант — скрипач, но отнюдь не Нерон, просто безродный пиликальщик!
О, мое пророческое сердце! Едва Трокмортон произнес «ее музыкант», мне вспомнилась мать и несчастный Марк Смитон — то, как ее обвинили в супружеской неверности и несчастный юноша поплатился жизнью.
Я играла сама у себя в комнатах — да, играла на вирджиналах — или слушала фрейлин, мальчиков, поющих дискантом, ибо такая близость дает пишу для пересудов, для скабрезных мыслей.
Разумеется, такие мысли зародились и в пьяном умишке Дарнли. Презираемый двором, отвергнутый женой, ревнующий к жизни, которая уже шевелилась в ее утробе, он замыслил вернуть себе власть. Мария сама дрожащей рукой — изложила мне скорбную повесть:
«Мы вечеряли в моих покоях Холлирудского дворца, когда к нам ворвались мой супруг-король с шайкой негодяев, которые выволокли моего слугу Риччьо из-за стола и предали жестокой смерти, — потом на его теле насчитали более шестидесяти нанесенных кинжалами ран.
Мне тоже угрожали, приставили меч к горлу и пистолет к животу, так что я перепугалась за ребенка…»
Напрасно пугалась. После первых наперстянок, но еще до летних маргариток, в июньский день, столь жаркий, что даже в Шотландии рожать было нестерпимой мукой, она разрешилась от бремени…
Надо ли спрашивать?
И так ясно.
Гневался ли на меня Господь? Испытывал? Предупреждал?
Она родила мальчика, красивого, крепкого, толстого, вполне жизнеспособного, и назвала Яковом в честь своих отца и деда, Шотландских королей.
Я рыдала в объятиях у Робина.
— Королева Шотландская произвела на свет прелестного сына, а я безбрачна и бездетна!
— Не плачьте, не плачьте, — утешал он меня, но возразить тут было нечего.
Наконец-то принц из рода Тюдоров. Полноценный и такой смышленый, что все клялись: он на этом свете не впервые.
Но он родился не по ту сторону границы, не в той вере, не от той женщины — все не так. Не будь он папистом, сумей мы оградить его от ее пагубного влияния, будь наследником он, а не она — слишком много «если». А меня и так замучили «но».
— Не вздумайте объявлять его наследником! — предупреждали мои непримиримые парламентарии. — Мы не потерпим на английском троне католика, тем более — шотландца! Самые лондонские камни восстанут против него!
Ладно. Зато я буду крестной, об этом попросила Мария — поздненько она спохватилась и начала ко мне подлаживаться. Я послала своим представителем герцога Бедфорда, и с ним — купель чистого золота, в два стоуна весом, в подарок крестнику вместе с моими искренними молитвами о мире.
Мир в Шотландии?
Скорее уж тишина в аду.
— Шотландия — это сточная яма. Ваше Величество, трясина! — ругался Бедфорд по возвращении.
Теперь, с рождением Якова, престолонаследие в Шотландии утвердилось, и ненавистный «король» Дарнли оказался никому не нужен.
Сесиловы глаза и уши видели, слышали и доносили, как шотландские лэрды затевают изжить неприятное напоминание об остывшей королевиной страсти.
«Верховодит у них наследственный лорд-адмирал, граф Босуэлл, — писал Трокмортон, — но за этими титулами скрывается опасный дебошир, тщеславный, опрометчивый и горячий юнец».
Я прочла письмо и порвала пергамент в клочки — судя по всему, второй Дарнли! Очарует ли он Марию, как очаровал первый?
— Никакого развода! — предупреждала Мария — развязаться с мужем значило поставить под сомнение будущность сына; раз нет брака, значит, и ребенок — незаконный. Лэрды переглянулись понимающе — если не развод, то какой остается способ избавиться, от мужа?
Только один.
А мрачный косец смеялся и потирал костлявые руки.
Каждый вечер я ложилась с мыслями о Шотландии, каждое утро просыпалась, чтоб узнать о новых тревогах. Франция настойчиво требовала ответа на сватовство короля, юный Карл слал из Версаля надушенные фиалками письма: «Вы пишете, мадам, что Вас смущает моя молодость.
Ах, если б мой возраст восхищал Вас так, как меня восхищает Ваш!»
Сесил почти ежедневно находил способ напомнить мне о другом Карле, эрцгерцоге Габсбурге, — он по-прежнему надеялся, что этот брак даст нам защиту от Испании. А в защите мы нуждались: герцог Альба, первый вельможа и военачальник Филиппа, перебрался из Испании в Брюссель. Уолсингем сообщал из Парижа тревожные вести;
«Герцог постепенно стягивает в Нидерланды всю военную мощь Испании. Он сосредоточил здесь десять, пятнадцать, пятьдесят тысяч солдат — немцев, валлийцев, итальянцев, первоклассных ландскнехтов; подобных воинов эти края не видели с тех пор, как Юлий Цезарь привел из Рима свои легионы. И все эти войска готовы вторгнуться в Англию!
— Как остановить Испанию, задержать ее войска, умерить ее амбиции, выпустить ей ветер из парусов? — стонала я в совете и за его стенами — это было мое утреннее приветствие и вечерняя молитва.
Робин смеялся:
— Что, если предложить Вашему Величеству прожект с участием Хоукинса? Похоже, лорды и купцы, вложившие в него свои средства, изрядно обогатились.
— Ox, прожектеры…
Передо мной в Присутственном покое и дальше в прихожей толпились просители — разношерстная публика со свитками пергамента наготове, и среди них, разумеется, множество бредящих золотом прожектеров — все они в мечтах чеканили золото, спали на золоте, ели золото, даже испражнялись золотом. Но этот Хоукинс…
— Из Плимута? Мореход?
Робин кивнул.
— Дайте ему денег, миледи, отправьте его в Америку, откуда испанцы везут свое золото, — вы и сами обогатитесь, и королю Испанскому насолите, — убеждал он. — Только одно: дайте, кроме денег, пушки. Ему надо вооружиться до зубов, чтобы на английских скорлупочках проскочить мимо испанских галионов и утереть нос вашему бывшему зятю!
Я любила его за эту непочтительность — за эту дерзость! Хоукинс был мне известен, его советы пошли на пользу нашему флоту. Но деньги, деньги, деньги…
— Сколько, Робин? — спрашивала я недовольно. — И чтобы все было тайно, пусть никто не знает о нашем участии…
Он сверкнул белозубой улыбкой — это уж, мол, само собой.
— Доверьтесь мне, сладчайшая миледи, доверьтесь мне!
Однако Шотландия постоянно была рядом, постоянно тянула за ноги, пока не затащила нас всех в свое первобытное болото. Ни Софокл, рыдала я при полуночных свечах, ни другой древний сочинитель не придумал бы истории трагичнее; боги обратили нас в актеров, зло суфлировало, страсти раскрутили сюжет. И с самого начала, с первой нити Судеб, в центре драмы была Мария.