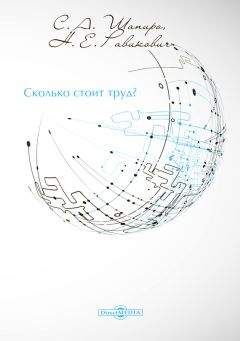Видя, что все домогательства впустую, паша собрал своих аскеров и вместе с самыми верными беями выступил в поход.
А время было уже осеннее. Алым, лиловым огнем пылают скалы на склонах Горы. Все выше и выше взбирается отряд паши. Только камешки летят из-под копыт лошадей.
Наконец, они в деревне Сорик, где живет Ахмед. А там ни одной живой души.
Паша и его люди малость отдохнули, а потом Махмуд-хан приказал спалить все селение.
Из одного горящего дома вышел весь седой, с клочьями сажи на бороде и на ресницах, древний старик, одетый в новехонький, с голубой вышивкой, шаль-шапик — излюбленный наряд курдов. Это был Софи.
Смотрит он на пашу в упор немигающим орлиным взглядом и говорит:
— Что ты бесчинствуешь, паша? С тех пор как стоит мир, еще ни один человек не вернул чужого коня, который прибился к его дому. Неужто не знаешь ты этого обычая? Видно, уж совсем стал османцем. Из-за одного коня сжечь целую деревню! Берегись, паша! Проклятье Горы падет на твою голову! Не простит она тебе этого злодеяния!.. А ведь я знавал твоего отца. Настоящий йигит был — не тебе чета, хоть ты и пашой стал. Уж он-то не пошел бы против обычая. Даже если бы его конь прибился к дому вдовы, сироты или вора — все равно не потребовал бы обратно. Так-то вот, паша. Проклятье Горы падет на твою голову!
Ничего не ответил ему Махмуд-хан, только процедил:
— Свяжите ему руки, наденьте железный ошейник и отведите в тюрьму.
Много деревень разбросано по склонам Горы. Из одной в другую шли люди Махмуда. Но везде пусто. Будто вымерли все селенья. Злобится, беснуется паша. Кричит с пеной у рта:
— Смутьяны, бунтовщики!
Человек он высокий, рослый. Глаза — карие, борода — черная курчавая, нос — клювом. И в словах и в делах выказывается спесь необузданная. Говорит он, правда, мало, все больше думает. Осанка у него величавая, поступь — широкая, размашистая. Кутается он в соболя, весь потом исходит, а мехов не снимает.
Прошел паша со своим войском по долине Игдыра, миновал Башкёй, вышел в ахурийскую долину и поднялся к горным пастбищам. И нигде — ни чобана, ни путника случайного, ни разбойника. Ни птиц, ни зверей никаких — ни медведей, ни лисиц, ни диких кошек. Таким, вероятно, был мир до сотворения живых существ. Даже мошки и жуки и те куда-то запропастились.
— Все равно отыщу их, — кипятится паша, — хоть под землей спрятались — отыщу. Даже если в Иран, Хиндистан или Китай удрали — все равно отыщу.
Курдские беи и слова молвить не смели — помалкивали.
Подкатила зима. Устали, выбились из сил и лошади и аскеры с тяжелыми заплечными сумками. Весь Большой Агрыдаг обшарили, добрались до Малого. И по-прежнему — никого. Пожелтел паша, спал с лица. Но все ярится. Неужто так и не попадется им ни одна живая душа? Только эту злобу в себе носит — никому ни слова. Что надо — рукой показывает.
Один из курдских беев, Молла Керим, как-то набрался духу и сказал Махмуд-хану:
— Мой паша! На этой огромной Горе хоть тыщу лет ищи, все попусту. Уж если эти горцы запрячутся, их и сам шайтан не отыщет. Убей меня, паша, если я говорю неправду.
Поглядел на него паша — глаза грустные-прегрустные, но так ничего и не ответил.
Двинулись дальше. Одно только желание у паши — лишь бы увидеть хоть кого-нибудь, кроме этого дряхлого Софи.
Не выдержали, в конце концов, беи, собрались, стали обсуждать, как быть дальше. Сколько можно плутать по горам! Лошадей загнали, сами с ног сбились, а толку никакого. Паша же и слушать ничего не желает — весь злобой пышет. А зима уже на носу. Так и жди снежной бури или лавины. Дело опасное. Посовещались беи и решили все-таки переговорить с пашой.
Подошел к нему Молла Керим и, почтительно прижав к груди руки, говорит:
— Мой паша, разреши смиренно доложить тебе о нашем решении. Вынуждены мы прекратить поиски, разъехаться по домам. Но вот тебе наше слово: через три-четыре месяца, еще и зима не окончится, приведем тебе и коня и Ахмеда.
— Да что там конь и Ахмед, — отвечает паша. — Я только хочу знать, куда подевалось столько народу. На всей Горе — никого, кроме Софи. Муравьи и те попрятались. Хочу видеть людей. Еще до того, как сойдет снег.
Снова собрались на совет курдские беи. Долго спорили и опять послали к паше Моллу Керима.
— Хорошо. Найдем тебе и людей. Еще до того, как сойдет снег. Положись на наше слово.
Вернулись все они в беязидскую крепость. Пригласил паша беев в мраморный зал, щедро одарил за службу. Беи, понятно, радовались, но душу их точило беспокойство. Как сыскать Ахмеда? Эти горцы знают каждую тропку в горах, их там и до судного дня не выследишь.
Махмуд-хан был человек неглупый, образованный. Он почитал османского падишаха, гордился славой Османской империи. Дед его и отец были из горных краев. Паша не знал, когда они переселились на равнину, знал только, что отец учился в арзрумском медресе, а затем перебрался в Стамбул. Там достиг высокого поста, и падишах пожаловал ему титул паши. Отца своего Махмуд-хан хорошо помнил. Он отличался орлиной смелостью, был решителен. Отец давно обосновался в беязидской крепости, куда со всех сторон стекались ученые люди, певцы и сказители. Его воле покорялись все курдские беи — от Эрзрума до Карса, от Карса до Вана. До глубокой старости дожил он — и до последнего дня в седле! На лето, оставив свой роскошный дворец, он поднимался в горы, разбивал там шатер. Рядом были ледники, и от них веяло приятной прохладой.
Горцы относились к отцу Махмуд-хана с большим уважением. Возможно, чуточку и побаивались, но по-настоящему уважали. И он платил им взаимностью. Обычаев, во всяком случае, не нарушал. Махмуд-хан хорошо помнил, как отец собирал у себя в шатре по сорок — пятьдесят кавалджы и с упоением слушал их игру.
Интересно, как поступил бы отец на его месте? И как поступили бы горцы? Вернули бы коня? Ответа на этот вопрос не было, точно так же как не было ответа и на другой вопрос: как смогут беи выполнить свое обещание. Что, если горцы укроются в Хороссане или еще где-нибудь?
Сам паша, как и его отец, учился в Эрзруме, затем служил в Стамбуле. Отличился. Покрыл себя славой в сражениях.
Живал он в Дамаске, Алеппо и Каире. Бывал в Софии и Транси льва нии. Изъездил весь восток и запад. Нов конце концов вернулся в беязидскую крепость. По настоятельной просьбе отца. Сам он, по своей охоте, ни за что бы не покинул Стамбула. Через двенадцать лет отец умер, и титул паши перешел к нему — как к старшему сыну.
Долгое время Махмуд-хан не мог привыкнуть к горам, к здешним людям и нравам. Роскошью беязидский дворец превосходил даже стамбульские дворцы, но освоился он там с трудом. Долго тосковал, скучал. Рассеяться ему помогли горянки: и лицом хороши, и станом стройны, таких тоненьких девушек нигде больше нет. В первый раз он женился на армянке. Во второй раз — на дочери курдского бея. Третью жену привез себе с Кавказа. Четвертую — с берегов озера Урмийе. От этих четырех жен родилось у него три дочери и восемь сыновей. Было у паши еще пятеро братьев — все они жили на игдырской равнине. Он их слегка презирал, чурался. Лишь младший брат жил сначала во дворце, но потом и он перебрался к другим братьям. Женился на девушке из своего рода да так и осел в тех краях. Паша до сих пор не мог простить ему этого.