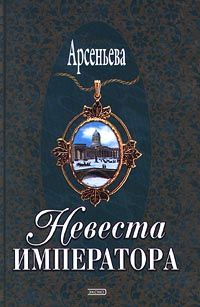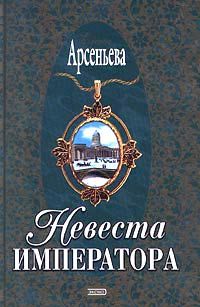Все-таки не зря Кузьма сделался старостой, ибо он отличался замечательным знанием природы человеческой! Сурово прикрикнув на праздную толпу и вынудив ее разойтись, князь Федор все с тем же участливым выражением склонился к опозоренному, раздавленному горем отцу, роль которого с успехом и старанием исполнял Кузьма, и негромко проговорил:
– Стоит ли так убиваться? У тебя что, она одна-разъединая?
– Да еще трое, из них две девки малые совсем! – подпустил слезу Кузьма, с надеждою задирая к князю пегую окладистую бороду.
– Ну и думай о них, а Нюрку выдай замуж в другую мою деревню, ну хоть в Ящерки, что ли, за вдовца или бобыля.
– Tак ведь забьет ее мужик после свадьбы за позор, замучает! – резонно возразил староста.
– Да брось! – усмехнулся князь. – Я сам сватом буду – это одно. Другое – никто жениха в кандалах, силком к алтарю не потащит – все будет по доброй воле. А приданое я дам за Анной Кузьмовной такое, что муж ее на руках всю жизнь носить будет.
При словах «Анна Кузьмовна» староста едва не зарыдал истинными, а не придуманными слезами. Не знай он доподлинно, что князя не было и быть не могло в числе Нюркиных кобелей, непременно подумал бы, что тот пытается прикрыть свой грех. Именно эта необъяснимая, внезапная сердечность и вышибала слезу из кремнистой Кузьминой натуры. Повезло, ох повезло Нюрке, дуре… Надо же, как удачно все нынче сошлось! Уж лучше с богатым приданым за мужиком, чем в бедности за беспутным попом. Ну, ручки князюшке надобно целовать за милость!
Кузьма с охотою совершил задуманное, невзирая на сопротивление барина, и уже с легким сердцем исполнил его просьбу: дал на время тихоходную кобылицу из своей конюшни, чтобы провинившемуся попу было как убраться из деревни.
Однако Кузьме осталось неведомо, что едва отец Вавила отъехал на приличное расстояние, его догнали двое всадников на быстроногих жеребцах и, не слушая возражений, заставили свернуть с дороги, ведущей к неказистой церкви и полуразрушенному поповскому жилищу, на другую, которая шла к барской усадьбе. * * *
– Ну и каков же вы есть дворянин? – полюбопытствовал князь Федор час-другой спустя, когда отмытый, переодетый в чистое, хоть и мирское платье (нелегко оказалось подобрать одежду для такого здоровяка) отец Вавила уселся за стол напротив хозяина, силясь направить взор на него, а не на блюдо с яичницей, и другое – с жареной зайчатиной, и третье, обливное, – с лапшой, и пятое, и десятое… и не на кувшин с самогонкой или тройку темных узкогорлых бутылей с заморскими винами.
– Третий сын графа Луцкого, в миру Владимир, в святом постриге Вавила, – отрекомендовался рыжий поп, с видимым отвращением выговаривая свое новое имя. – То есть, я хотел сказать, Семен Уваров, – пробормотал он так тихо и неразборчиво, что Федору показалось, будто он ослышался.
– А постригся-то зачем? – сочувственно спросил князь Федор, и по его знаку прислуживающий за столом Савка налил отцу Вавиле из кувшинчика и шмякнул на тарелку тугой шмат квашеной капустки. – Неужто по доброй воле?
– Где там – по доброй воле! – неразборчиво из-за переполнявшей рот слюны выговорил праведный отче. – Батюшка силком отдал. Сельцо-то у нас маленькое, душ раз-два и обчелся, а я меньшой, мне и помету куриного не досталось бы по закону о единонаследии.
Он пригорюнился, и князь Федор с дружеской улыбкой воздел свою чарку:
– За ваше здоровье, отец Вавила! Не вспоминайте о печальном!
– Gaudeamus igitur, – отозвался молодой поп, – juvenes dum sumus! [35] Хотя… и веселиться вроде бы не с чего, и юность прежняя умчалась. Ну что ж, на все воля божья. Ergo bibamus! [36]
И он до дна осушил свою кружку с такой лихостью, что князь и его верный слуга, немало видевшие мастеров питейного дела в Англии, Голландии, Баварии и Франции, переглянулись почти с суеверным ужасом: никто из них этому рыжему и в подметки не годился!
– Ежели он так запрягает, то что же будет, когда погонять начнет?! – встревоженно шепнул Савка, всегда жалеющий барский припас пуще собственного.
А князя Федора удивило другое.
– Никак преизрядно усердным были вы студиозусом? – восхитился он. – В какой же alma mater [37] обучаться изволили?
– В какой же еще, как не в Славяно-греко-латинской! – с тоскою, как о чем-то прекрасном, но безвозвратно утраченном, простонал отец Вавила.
– В Киевской? – предположил князь.
– Зачем?! – обиделся рыжий. – В Московской! Эх-эх, золотые денечки невозвратные, где вы?! Nie permanet sub sole! [38] Выпьем за сказанное!
И вполне, видимо, уже освоившийся отец Вавила тяпнул по второй с таким пылом и сноровкою, что хозяин успел лишь пригубить.
– Ученье, стало быть, было интересным и пользительным? – с невинным видом подначил князь Федор, и рыжий насмешливо оттопырил толстую нижнюю губу:
– Ученье? А то ж! Оно, как известно, свет, в отличие от своей противоположности. Вот ученье кончилось – и свет погас. In tenebris [39] пребываем с утра до ночи и с ночи до утра. Да воскреснет бог, да расточатся врази его! Выпьем, стало быть, за сказанное.
На сей раз князь Федор оказался сноровистее и успел сделать целых два глотка, прежде чем бородатый живоглот опорожнил третью чару варенухи. Однако ему было сие – как с гуся вода.
– Благолепие! – восклицал он. – Москва белокаменная, первопрестольная, златоглавая! Товарищи веселые кругом, библиотеки полны изреченной древней премудрости. Господа преподаватели… Vivat Academia, vivat professores! [40] Знаешь, кто у нас лекции читал, кто писал для нас учебники? – Он значительно воздел палец. – Лихуды! Сами Лихуды! – И опрокинул новую кружку.
– Может быть, лахудры? – осторожно предположил Савка, решив, что у гостя язык начал заплетаться.
Князь Федор так расхохотался, что едва нашел силу махнуть рукой, давая знать, что все в порядке: он слышал о знаменитых братьях-греках Лихудах Иоанникии и Софронии. Теперь старший уже помер, а младший все еще учит книжной премудрости студиозусов… да впрок ли им премудрость сия?
– Ты погоди, ты поешь! – Князь Федор собственноручно наполнил тарелку гостя, отодвинув его чарку.
Тот понял, что больше не нальют, и всецело предался еде. Закуска была отменная, и когда отец Вавила, насытившись, поднял на хозяина признательный взор, он уже не был подернут хмельной тупостью.
– Ну и скажи, отче святый, чего ж ты бесчинствуешь? – по-доброму пожурил князь Федор. – Жил бы в чине, в благолепии, женился бы вдругорядь, обустроился…
– Нищета наша, – вздохнул молодой поп. – Ми-ром церковь не поднять – жертвования нужны. Так ведь кто даст?! Эх, помереть бы! – пророкотал он вдруг, словно завел на клиросе: «Иже херувимы тайно образующие…» – Там, в раю, говорят, нищих нету!