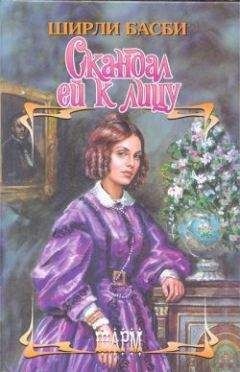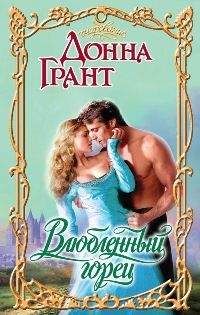Но вместо этого Вероника расстегнула следующую пуговицу, гадая, посмеет ли задать следующий вопрос, что беспокоил ее больше всего. Оставит ли он ее, если соберется уезжать?
Планка с пуговицами доходила до середины ее груди, и оставалось еще расстегнуть четыре пуговицы. Еще четыре вопроса, если бы он позволил ей задать их.
— Почему я гуляю? Люблю уединение.
Вероника знала: он лжет, причем догадываясь о том, что она это знает. Вместо того чтобы продолжать настаивать и задавать вопросы, она поднесла руку к груди. Все внимание Монтгомери было приковано к ее пальцам, и от его взгляда ее кровь воспламенилась.
— Как твое второе имя?
Этот вопрос, должно быть, удивил его, но Монтгомери снова улыбнулся. При этом по обе стороны его рта появились глубокие ямочки.
— Александр. А твое?
— Мойра, — ответила она. — У тебя были рабы?
Его лицо поблекло, улыбка увяла.
— Ты все время об этом думала?
Она кивнула.
— Ты аболиционистка, Вероника?
Она не ожидала такого вопроса.
— Думаю, да, — ответила она, положив руку на планку с пуговицами.
Монтгомери не ответил на ее вопрос, — время тянулось мучительно медленно.
— Значит, не было, — решила Вероника.
— Я похож на своего деда, — сказал он. — Он не стремился повелевать другими человеческими существами.
Монтгомери снова улыбнулся, но на этот раз печально.
— Мой дед твердил, что мы владеем землями и морями, но у нас нет права владеть другими людьми.
— Значит, в Гленигле не было рабов?
— Я этого не говорил.
Монтгомери повернулся, подошел к окну, раздвинул Занавески, чтобы видеть долину, погруженную в ночной рак.
Может быть, ей не следовало задавать этот вопрос? Но прежде чем Вероника успела что-нибудь сказать, муж снова повернулся спиной к окну и стоял, упираясь ладонями в стену по обе стороны подоконника.
Вытянул ноги и теперь рассматривал свои сапоги, потом оглядел комнату, не спеша отвечать на вопрос.
Возможно, ей следовало удержаться от вопроса или не настаивать на ответе, но любопытство оказалось сильнее, и она промолчала.
— Теперь ты носишь имя Фэрфакс и имеешь право узнать историю семьи, — сказал он. — Мой дед покупал рабов. Табачные плантации требуют рабочих рук. Но как только раб попадал в Гленигл, он получал свободу. По контракту он был обязан отработать пять лет, а после этого мог уйти или остаться по собственному желанию.
Вероника молчала, обдумывая его слова.
— После смерти деда мой отец покончил с такой практикой. Возможно, он был более жадным. Я часто думал, не связано ли это с влиянием семьи матери. Родственники открыто высмеивали поступки деда, считая их неразумными с финансовой точки зрения.
Монтгомери сложил руки перед собой и принялся разглядывать ковер.
— Должно быть, соображения экономической целесообразности притупляют моральную сторону вопроса, — сказал он.
— Англичане отменили рабство более тридцати лет назад, — сказала Вероника.
Монтгомери кивнул, показывая, что знает это.
— Это как раз и вызвало мое отчуждение от братьев, — продолжал он. — Они следовали примеру отца. Я же пошел своим путем.
— И что это был за путь?
Монтгомери снова повернулся лицом к окну.
— Мне дорого далось отчуждение от семьи. Выбор между делением совести и родными — тяжелое дело.
— Твой дед не одобрил бы ни твоего отца, ни братьев.
Он посмотрел на нее через плечо:
— Не одобрил бы.
— Но думаю, ему бы понравилось то, что ты стал одиннадцатым лордом Фэрфаксом-Донкастером, — сказала Вероника.
Монтгомери улыбнулся, но ничего не ответил.
— Должно быть, тебе это далось тяжело, — сказала Вероника мягко. — Разлад с теми, кого любишь.
— А у тебя никогда не возникало разногласий с твоей семьей? — спросил Монтгомери, все еще глядя в окно.
Вероника подумала о годах, прожитых в доме дяди в Лондоне. Она была там несчастлива, потому что ни с кем из его семьи у нее не было ничего общего.
Она чувствовала, что ее связывают с ними узы родства: ведь, в конце концов, дядя приходился братом ее матери. Но любила ли она их? Не так, как любила родителей.
— Не могу представить, чтобы я была не согласна с родителями, — ответила Вероника.
— Как ты и сказала, это тяжело, но со временем эта тяжесть становится привычной.
— Они умерли, твои братья?
С минуту Монтгомери не отвечал, но, когда собрался с духом, ответ его не стал для нее неожиданным.
— Да, — сказал он просто.
Она подошла к Монтгомери и встала рядом с ним у окна. То, что она в нем почувствовала, Вероника не смогла бы описать словами. Боль, воспоминания о радости и какое-то одновременно горькое и сладкое томление.
Внезапно она почувствовала, как он хочет вернуться домой. Но дом для него не являлся определенным местом. Для него это означало быть окруженным близкими людьми, теми, кого он любил и кто сформировал его образ жизни.
— Итак, ты оказался лордом, приехал в Англию и мужем. Я бы сказала, что для одного человека это слишком.
— А ты, Вероника? — спросил Монтгомери, оборачиваясь. — Ты оказалась женой незнакомца, американца. Я думаю, что для одной женщины также слишком много сложностей.
Она не ответила.
— Я стараюсь держаться в стороне от всего, но каким-то образом нахожу и здесь свой собственный путь.
Ее поразила его честность.
Вероника расстегнула остальные пуговицы.
— Больше у тебя нет вопросов? — спросил Монтгомери.
— Нет, — ответила она, стараясь быть такой же честной, как он. — Глупо притворяться. Ты пришел ко мне, и я хочу быть с тобой.
На этот раз удивился он.
— Ты самая удивительная женщина из всех, кого я знаю.
— Неужели? — усмехнулась она. — Настолько удивительная, что ты готов продолжать разговаривать со мной? Я ничего о тебе не знаю, Монтгомери.
— Напротив, Вероника, ты знаешь обо мне очень много.
Его улыбка стала язвительной.
— Я имею в виду не то, что знаю, как ты выглядишь обнаженным, Монтгомери. Я говорю о том, чем ты занят целый день в винокурне, или о твоих планах, касающихся воздухоплавания.
Вероника стояла перед ним, положив руки ему на плечи и поглаживая его от плеч до запястий и обратно, потому что испытывала желание дотронуться до него. Монтгомери уже снял куртку, и рубашка вот-вот должна была последовать за ней.
Монтгомери не сводил взгляда с ее лица, но ничем не выдавал своих мыслей по мере того, как молчание между ними все растягивалось.
Вероника закрыла глаза, потянулась к нему и попыталась распознать чувства, исходившие от него. Жар. Желание. Потребность в ней. Столь же острое и безысходное одиночество, как и ее собственное.
— Вероника!
При звуке его голоса она открыла глаза. Низкий и нежный, он оказывал на нее такое действие, что по ее коже побежали мурашки.