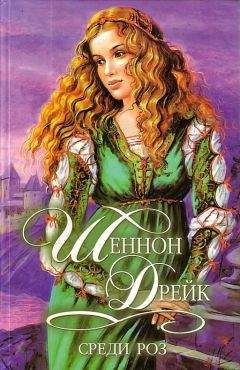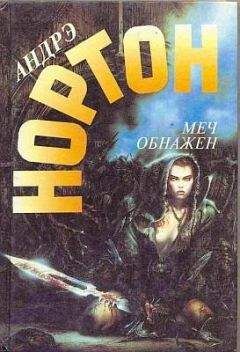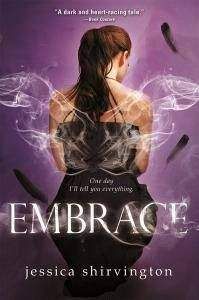Она не шевелилась и не отвечала, настороженно наблюдая за ним. Его улыбка стала шире, и это особенно встревожило Женевьеву. Игривость Тристана пугала ее сильнее, чем его гнев.
— Разве вам не пора вернуться в кабинет? — спросила она, отступая. — Вы же обещали Джону, что вскоре придете.
— Нет, леди, у меня в запасе еще много времени. Я искренне раскаялся, услышав ваши упреки в том, что жестоко обращаюсь с пленниками! И верно: моя пленница буквально тонет в грязи. Каким же надо быть негодяем, чтобы бросить ее в такую минуту?
Он шагнул к ней, обнял за талию, и Женевьева зажмурилась, ощутив его трепет. Напряжение быстро нарастало, угрожая взрывом. Посмотрев в сверкающие глаза Тристана, Женевьева вдруг поняла, что для него она — отнюдь не пленница, а игрушка.
— Не смейте! Я закричу во весь голос! Все в замке узнают, что новый хозяин…
Он расхохотался:
— Само собой, миледи! Услышав такие вопли, все тотчас поймут, что здесь происходит… а кричать вы будете довольно долго. Но время еще не пришло…
— Ненавижу вас! Пустите! — Она увидела, как улыбка сбежала с его лица, оно вновь стало суровым. И Женевьева дрогнула. Разве можно так ненавидеть и вместе с тем испытывать такое… желание? Его она распознала безошибочно: этот жар, возбуждение, дрожь и слабость нельзя иначе истолковать. Только не это!
Тихо вскрикнув, Женевьева высвободилась из объятий Тристана, но поняла, что ей некуда сбежать. Можно было попытаться лишь выиграть время и убедить себя в том, что ей ненавистны эти прикосновения. То, что объятия Тристана возбуждали в ней желание, казалось ей нелепым, неуместным и пугающим.
Он схватил ее за руку и в упор посмотрел на нее.
— Не надо! — воскликнула Женевьева, но Тристан уже притянул ее к себе и, сорвав халат, понес пленницу к чану. — Прошу вас, не надо…
Она погрузилась в ароматную и горячую воду. Тристан подхватил ее волосы и перекинул их через край ванны, чтобы они не намокли. Действуя проворно и уверенно, он освободился от сапог, чулок, туники и прочей одежды и застыл перед ней, невозмутимый и великолепный.
«Красивое животное, — подумала Женевьева. — Молодое сильное тело, состоящее из мускулов, мощное, сметающее все на своем пути»…
Тристан взял мыло и присоединился к ней. Женевьева увидела, как вода переливается через край чана; сердце ее учащенно стучало. Несмотря на весь ужас происходящего, его тело завораживало ее, не позволяло отвести взгляд. Их колени соприкоснулись; чан был слишком тесным для двоих, и потому Женевьева остро ощущала близость Тристана, испытывала то, чего не желала знать… Их обволакивал аромат роз — алых или белых…
Грубая мужская сила Тристана опьяняла ее, его руки творили чудеса, мощь тела возбуждала. От жаркого поцелуя Тристана у Женевьевы закружилась голова. Ее подхватило и понесло в загадочный мир, где ей оставалось только шептать его имя и подчиняться — не мужчине, а ощущениям, древней пляске внутреннего огня и извечному ритму…
Внезапно на его лице сверкнула дьявольская усмешка, от которой он сразу помолодел.
— Леди, я опять забыл о своем долге — помочь вам отмыться!
Она пыталась разрушить чары, вскочить, но их руки и ноги переплелись. Засмеявшись, Тристан взял ее за руки и притянул к себе, коснулся грудью ее высокой и упругой груди. Их глаза встретились, Женевьева не отвела взгляд.
Она была словно загипнотизирована этими полыхающими глазами.
Мучительный холод исчез. Ее окутало тепло, она не видела и не чувствовала ничего, кроме глаз и рук Тристана, а его поцелуй, горячий, как вода в чане, пробудил в ней страсть. Его ласки обжигали тело.
Наконец он поднялся, увлекая Женевьеву за собой и не сводя с нее пристального взгляда. Вода струйками стекала по обнаженным телам. Тристан перенес Женевьеву на постель. Насмешки прекратились, боль ушла — осталась только страсть, глубокая и всепроникающая. Женевьеву захватил вихрь движений Тристана, она впилась ногтями в его плечи и вскрикнула, ощутив первое прикосновение стального копья. Все завершилось восхитительным взрывом, от которого Женевьева окончательно обессилела. Тристан затих, продолжая обнимать ее. Постепенно оба успокаивались.
Придя в себя, Женевьева закричала от ярости, высвободилась, спрыгнула с кровати и набросила халат. Тристан следил за ней насмешливым взглядом. «Он вправе смеяться надо мной, — с горечью подумала Женевьева, — ведь он так легко подчинил меня себе!»
Но он не смеялся, а лишь задумчиво наблюдал за девушкой, пока она не отвернулась. Охваченная отчаянием, Женевьева пошла к камину. Плакать нельзя, даже после того, как он уйдет. А Тристан скоро уйдет. Оденется, вернется к Джону и через несколько секунд забудет о ней, тогда как она…
Так он и сделал. Ею овладел страх: на миг показалось, что Тристан направляется к ней, но он приблизился к чану и плеснул водой себе в лицо. Продолжая исподтишка наблюдать за Женевьевой, он взял полотенце, вытерся и тут заметил, что она дрожит.
— Не забудьте, миледи, что ваш завтрак на подносе, — сказал Тристан. — Поешьте, пока еда не остыла.
— Убирайтесь отсюда!
Он усмехнулся — негромко и горько.
— Ах да! Вы же с ног до головы покрыты грязью! Прошу меня простить, миледи. Но должен признаться, вы постепенно начинаете выполнять свое обещание. — Его голос звучал гневно. Женевьева съежилась, услышав гулкий стук захлопнувшейся двери.
— Чудесный день! — сказал Джон. Он и Тристан шагом ехали по дороге, ведущей из Иденби.
День и вправду выдался славным — такие воспевают в стихах поэты. Высоко в небе сияло солнце, легкий ветерок овевал холмы, луга и поля. Осенние листья окрасились в золотистые, оранжевые и красные тона. Наступило время сбора урожая, обещавшего изобилие. Это чуяли лошади, коровы и овцы, пасущиеся в полях, ощущали кружащиеся в воздухе бабочки и пчелы.
Тристан только хмыкнул. Джон видел, что его друг мрачен. Казалось, на его лицо набежала тень грозовой тучи.
— Не забывай, дружище, — мягко заметил Джон, — что мы — люди доброй воли. Маска тирана нарушает мир и гармонию.
Тристан встрепенулся.
— Да, Джон, день прекрасный. Осень предстала сегодня во всей красе. Все вокруг говорит о величии природы и щедрости Бога. Похоже, земля не подозревает о том, что Ричард убит, а королем стал Генрих. — В голосе Тристана по-прежнему сквозила горечь. Джон, пришпорив коня, поравнялся с другом. — А теперь хмуришься ты, — заметил Тристан.
Джон пожал плечами:
— Я видел тебя всяким, Тристан, — и в ярости, и в муках. Мне известно, как ты умен, добр и милосерден. Я видел, как ты смотрел в глаза смерти, оставаясь прочным, как кремень, и невозмутимым. Но я еще никогда не видел тебя таким встревоженным, разгневанным и угрюмым.