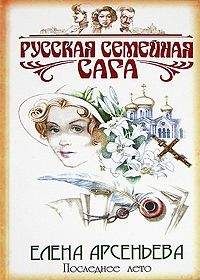Ознакомительная версия.
– Что ж это за танец такой, танго? – Марья Ивановна вовсе не была такой уж глупой, какой привыкла себя подавать. Просто она знала, что мужу очень нравится считать ее гусыней, ну и на здоровье! Сейчас она изо всех сил изображала интерес, которого вовсе не испытывала, только бы отвлечь внимание Савелия от дочкиного жениха, смягчить отцовский гнев.
– Красота неописуемая!
– Редкостная чепуха! – в один голос подали взаимоисключающие реплики Варя и Дмитрий, взглянули друг на дружку возмущенно и расхохотались.
– Погоди, помолчи! – махнула рукой Варя и затараторила: – На Полевой улице, дом 73, открылись курсы танцев Мишель-Михайленко. Вот, я списала объявление! – Она вытащила из карманчика юбки листок и с выражением прочла: – «Настоящий балетный и национальный «Танго» и бальный менуэт. Прием ежедневно во всякое время». Ну, бальный менуэт нам вроде ни к чему…
– А по мне, лучше менуэт изучить, чем бродить, цепляясь друг за дружку, вихляясь ногами, в вашем танго, – возразил Дмитрий.
– Как это – ногами вихляясь? – удивилась Марья Ивановна.
– Да вот так! – Дмитрий порывисто вскочил и принялся выписывать по полу восьмерки, неуклюже цепляясь носком за носок. – Кавалер вот этак стоит, а дама вокруг него крендельки пишет. И поза у них самая дурацкая: щека к щеке.
– Ты что? – обиженно спросила Варя, и носик ее покраснел. – Не хочешь танцевать со мной щека к щеке?
«Вот я и правда дурак!» – ужаснулся Дмитрий и тотчас, как ему показалось, нашел, как вывернуться из положения:
– Между прочим, кайзер Вильгельм издал приказ, запрещающий офицерам германской армии танцевать этот «похотливый и возмутительный танец», если на них надет мундир. А я все же в мундире, хоть и другой империи…
– Похотливый и возмутительный? – простонала Марья Ивановна. – Варька, не смей туда ходить, на поганые курсы…
– Кайзер Вильгельм запретил? – перебил ее Савелий Савельевич, который от неприязни к Аксакову вовсе голову потерял. – Ничего! Что немцу смерть, то русскому здорово! Учись, Варька, свой танго танцевать. А коли кавалер твой не желает, – последовал лютый проблеск очей в сторону молодого человека, – мы другого найдем!
Дмитрий, не ожидавший такого демарша, растерянно хлопнул глазами, выронил монокль и жестоко насупился.
Ага! Обиделся? Ну так я тебя еще пуще обижу! Савелий Савельевич и сам не понимал, что его так разобрало. Из-за какой-то пляски, пусть и иноземной, пусть и заморской (танго ведь изобрели в Аргентине, а это, кажись, страна заморская… а впрочем, Савелий Савельевич сызмальства в географии не силен был, так что извините великодушно, коли что напутал!), жених готов поссориться с невестой? Вместо того чтобы взять да и доставить ей удовольствие? Такое не помещалось в савельевской голове.
Нет слов, в его доме нравы были самые патриархальные, и супруга его, глупая гусыня, твердо была приучена к месту. Однако (положа руку на сердце) единственную по-настоящему счастливую пару он наблюдал там, где муж полностью находился под каблуком у супруги. Для себя Савелий Савельевич, разумеется, подобного никогда бы не допустил, однако для Варьки находил такое положение вполне приемлемым. Так что пускай жених привыкает к своему месту! И, глядя то в готовое накукситься лицо дочери, то в замкнутое лицо Дмитрия, он рявкнул:
– А коли не по нраву тебе танго с Варькой танцевать, то вот он – бог, а вот он – порог!
Дмитрий вылетел из столовой, даже не оглянувшись. Марья Ивановна беспомощно прижала руки ко рту.
Варя с ужасом смотрела на отца.
– Ничего, – пробурчал Савельев, уже несколько остынув и начиная понимать, что наломал, пожалуй, дров преизрядно, на целую поленницу хватит. – Воротится, никуда не денется! А не воротится, так оно и еще лучше!
* * *
Проводив Шурку Русанова, а потом и девушек, Виктор вернулся в подвал за Павлом, и вскоре они проходными дворами выбрались на Жуковскую улицу. Павел с явным наслаждением снял очки, спрятал их в карман и потер покрасневшую переносицу. У него оказались глубоко посаженные серые глаза.
Было уже совсем темно, вьюжно. Очень сильно подморозило к вечеру, и на Благовещенской площади горел один из костров, разводимых по приказу градоначальника для обогрева прохожих. Городовой в толстом башлыке и зимней черной шинели топтался рядом, изредка зычно окликая проезжавших мимо возчиков с пошевнями, полными дров. Всякий послушно сбрасывал несколько поленьев. Около огня жались несколько жалких побродяжек и не менее жалких облезлых дворняг. Подходили греться и извозчики, а также некоторые прохожие. В особо лютые морозы такие костры горели круглые сутки. Теперь, в феврале, вроде бы уже не ждали холодов, но, чуть только они ударили, костры на перекрестках города запылали вновь.
Павел и Виктор прошли мимо. Виктор изредка оглядывался, никого, правда, не видя, но зная, что где-то неподалеку идут надежные ребята, охраняют.
Кругом, словно диковинные зимние светлячки, мелькали карбидные фонари экипажей и извозчичьих пролеток, а также карбидные фары немногочисленных личных автомоторов.
То один, то другой извозчик, высовываясь из своих поднятых заиндевелых воротников, окликал пешеходов:
– А вот на резвой! Озябнете же, а я мигом домчу хоть в Канавино, хоть бы и в Сормово само!
Виктор отнекивался: около Лыковой дамбы их должны были ждать свои санки, оставленные там из соображений все той же конспирации.
Павел шел молча, изредка потирая зябнущие уши, потом вдруг засмеялся:
– А славные девки, да? Дуры круглые, но таки-ие славные…
– Черненькая очень даже ничего, – с готовностью повернулся к нему Виктор: ему давно хотелось поговорить о девушках, но он робел старшего товарища. По сути дела, это был единственный человек, которого Виктор робел. Павел был опасен, как спящая гадюка, а гадюк бесстрашный Виктор боялся до столбняка.
– Ну, подумаешь, черненькая! Такая, как все, – хмыкнул Павел. – Вот Лариса – это да, это материал хороший…
– А чо там хорошего-та? – по-волжски зачокал Виктор. – Грудастая и жопастая, гляделки лупастые…
– Дурила, при чем тут гляделки да жопа? Ты что, забыл, чья она дочка? – покачал головой Павел.
– В том-то и дело, что не забыл. Поэтому я ей не верю. У нее это так – захотелось, знаешь, барыньке вонючей говядинки, да как отведает, расхочется. Посватается к ней какой-нибудь толстосум под стать папаше, сунут ее под венец – и все, забудет она товарищей по борьбе, о классовой битве забудет, а от сознательности ее останется один… – Виктор поискал словцо повыразительней, потом нашел – самое, на его взгляд, уничижительное: – Один кринолин!
Ознакомительная версия.