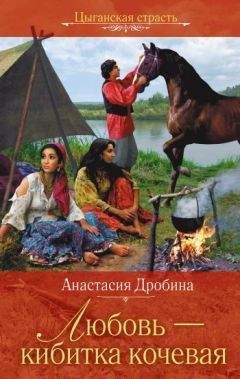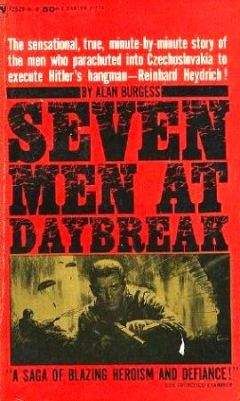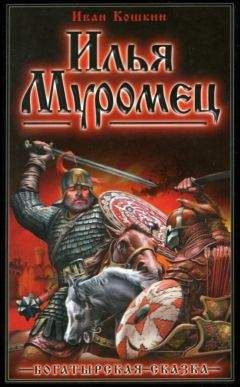Настя даже улыбнулась сквозь слезы: до того горделиво прозвучало это «от меня!». Стеха заметила улыбку и притворно нахмурилась:
– Чего хохочешь? Я ж не всегда таким сморчком мореным ползала. Небось покрасивей, чем ты, была! – Старуха снова взглянула на небо, крепче завязала платок и взяла Настю за руку. – Пошли-ка домой. Сейчас так запуржит, что возле дома в сугробах заблукаем… Вытри нос, девочка, а то он, как фонарь, светится. И ходи миллионщицей! Пусть бабье языки чешет на здоровье! А Илья от тебя никуда не денется. Слышала, как цыгане говорят? У рома[38] девок много, а жена одна. Побегает – вернется. И… не говори с ним про это. Не надо.
Настя послушалась. И даже обрадовалась, когда, сворачивая вместе со Стехой на свою улицу, встретила ее молодых внучек, немедленно напросившихся в гости. С тех пор как они поселились в Смоленске, в ее доме постоянно толклись незамужние девчонки, которые жадно просили Настю научить их петь и плясать «по-городскому», надеясь этим привлечь женихов. Настя смеялась, учила, сразу обнаружив двух-трех по-настоящему талантливых, быстро перенявших все ее романсы и исполнявших их хоть и без особого мастерства, но без фальши и с большим чувством. Однако сегодня почти сразу за девчонками явились и взрослые, привлеченные разносящейся на всю улицу «Невечерней», исполняемой в шесть голосов. Цыгане принесли баранок, пряников, Настя пошла ставить самовар, девчонки быстро накрыли на стол, и вскоре в доме было столько народу, что Настя даже не сразу заметила среди женщин многозначительно посматривающую на нее Фешку. А заметив, отвернулась и весь вечер старалась не приближаться к ней.
На людях Насте было легко держать себя в руках, никто из цыган, кажется, даже не заметил ее настроения. Да и Фешка почему-то помалкивала: видимо, не зря старая Стеха что-то долго и тихо втолковывала ей, пыхтя трубкой, как разводящий пары поезд. Стехи побаивались все, и Настя даже понадеялась, что Фешка прикусит свой поганый язык. Но вернулся Илья, гости разошлись, они остались вдвоем… и Настя отчетливо поняла, что, даже не предупреди ее Стеха, она все равно не смогла бы заговорить с мужем о той, другой женщине. Не смогла бы, и все. Что толку, раз он это уже сделал? И что он ей скажет? И какие разговоры тут нужны? Не реветь же перед ним, как недоеной корове, не ругаться базарными словами, не грозить, что уедет к отцу в Москву… Потому что никуда она не уедет. И ехать не к кому: отец, верно, на порог ее теперь не пустит. Да если бы и пустил – куда ехать с тяжелым животом?
Она все-таки сказала мужу про ребенка. Сказала не потому, что хотела сама, и не потому, что советовала Стеха. Просто слезы все-таки брызнули, и как раз тогда, когда не надо было, и потребовалось чем-то отвлечь Илью, уже всерьез испугавшегося: ведь плакала Настя нечасто. Она и сама не ждала, что муж так обрадуется, да к тому же легко согласится не трогаться с места весной, подождать до ее родов. На такой подарок Настя и не рассчитывала, и на сердце немного полегчало. Может, права Стеха? Может, сам угомонится? Может, в самом деле у всех так бывает, и никого еще чаша эта не минула? И с чего ей в голову взбрело, что у нее – именно у нее! – ничего такого в жизни не стрясется? Такая же, как и все, не лучше, а коли так… Что ж теперь поделаешь, коли так.
Свечной огарок совсем расплавился, замигал и погас. В наступившей темноте Настя больше не видела своего лица. Она встала из-за стола, отвела за спину полураспустившуюся косу, почувствовала, как что-то потянуло волосы у виска, и поняла, что забыла снять подаренные серьги. «Ох, Илья…» – снова горько подумала она, вынимая одну серьгу и касаясь холодного, гладкого камня. Положила сережки на стол возле подсвечника, вернулась в постель, легла и накрылась с головой одеялом.
Заснуть все не удавалось: муж, лежа ничком, храпел на весь дом. В конце концов Настя сбросила одеяло и попробовала перевернуть Илью на бок. После нескольких безуспешных попыток Илья умолк, перевернулся сам, сквозь сон позвал: «Настька…», положил ей на грудь руку и тут же захрапел опять.
– И черт с тобой, – шепотом сказала Настя. Илья не услышал, не проснулся. А Настя так и не сомкнула глаз, лежа на боку и глядя в окно. До утра оставалось немного, снег за окном стихал, и в предрассветных сумерках уже проступили островерхие белесые контуры наметенных вьюгой сугробов.
В январе, после крещения, Москву завалило снегом. Сугробы поднялись почти до крыш низеньких домиков в переулках Замоскворечья и возле застав, мороза не было, по небу низко плыли тяжелые облака, похожие на разбухшие перины, из которых бесконечно высыпался медленный, густой, ленивый снег. Ветлы, клены и липы стояли, словно купчихи в шубах, все, до самых макушек, обложенные мягкими комьями, крыши чистились обывателями и дворниками дважды в день – и все равно чуть не трещали под тяжелыми снеговыми шапками. Улицы никто не чистил, и вскоре проезжие части поднялись выше окон, покрылись ямами и ухабами, на которых, как на волнах, качались и подскакивали извозчичьи сани. Вываленные в сугроб пассажиры давно уже не были новостью, и даже сами пострадавшие не особенно негодовали, ругая не столько оплошавшего извозчика, сколько проклятую погоду и городские власти. Впрочем, и последние были не виноваты: убрать такое количество снега было бы не под силу даже соединенным московским пожарным частям.
Снежное безобразие неожиданно прекратилось в начале февраля. Серые тучи уползли прочь, небо очистилось, засверкало пронзительной голубизной, выглянуло ослепительное солнце, и ударили морозы. Слежавшийся снег на улицах визжал под полозьями саней, сверкал алмазной крошкой на сугробах, голубел в тени склоненных кустов, розовел на солнце. Но любоваться этой сказкой было почти некому: все, кто мог, пережидали мороз дома и лишний раз не высовывали носа на улицу. Даже крикливый Сухаревский рынок, полный бедного люда, нищих, старьевщиков и жуликов всех мастей, в эти дни немного притих, и Данка, стоявшая на табуретке посреди ателье «Паризьен», подумала, что на обратном пути можно будет не держаться так крепко за сумку: вырывать некому, все ворье замерзло.
– Почему мадам вертится? Булавки, булавки! – раздался предостерегающий голос мамзель Дюбуа. Данка вздрогнула, с трудом вспомнила, что «мадам» – это она, и постаралась встать как можно ровнее.
– Выше голову! Плечи в линию! Ах, мон дье, у мадам несравненные плечи, это нужно подчеркнуть…
– Голых плеч не делать, эй! – заволновалась Данка. – Меня в таком платье из хора выгонят!
– Мадам не должна беспокоиться, – модистка обиженно поджала тонкие губы. – Я пятнадцать лет шью для хористок, и все оставались довольны. Но в плечах мы сделаем вот так… И непременно атлас! А лучше – грогрон![39] Нет, для этого фасона подойдет гладкий креп-шифон…[40]