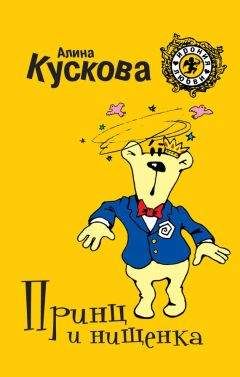«Так что же ты к нему чувствуешь, Сара?..» Всю свою сознательную жизнь она считала себя одной из тех, кто любит думать, размышлять. Для нее всегда было гораздо естественнее сначала проанализировать что-то, разобрать по косточкам — и лишь потом прийти к какому-либо выводу. Хотя бы к тому, что ее отношение и этому человеку подверглось изменениям… Но правда была в том, что она не хотела, чтобы эти изменения произошли. Ибо они могли повлечь за собой много неловких моментов: ведь помимо всего прочего, он был и, видимо, остается любовником (или как это можно назвать?) ее родной сестры…
Комната согрелась. Сара сняла пальто, повесила на гвоздь, вбитый в стенку. Надо было бы постелить и лечь, но мешало не проходящее беспокойство — думалось о сестре… о вещах, о которых ни в коем случае не следовало бы думать: о пальцах Адди в волосах у Ноа Кемпбелла. Сара никогда раньше не видела, пожалуй, у мужчин таких красивых волос — так непринужденно вьющихся… Они, наверное, словно пружины, под женскими пальцами… Этого ощущения Сара тоже никогда еще не испытывала.
Она резко оборвала свои мысли, подошла к зеркалу, чтобы заняться собственными волосами. Тщательно расчесала их, надела халат, нашла маленькое ручное зеркало. В нем она некоторое время изучала свой нос времен королевы Елизаветы, нажимая на его кончик, чтобы сделать короче, и сравнивая свои отображения. Поглядела на губы. Слишком тонкие, лишены той соблазнительной припухлости, что у Адди. Зато глаза… Глаза ей понравились — голубые, ясные, блестящие… Конечно, когда без очков. Но как только она их надела, глаза сразу потеряли всю свою привлекательность.
Она вздохнула и отложила зеркало, заменив его ручкой и чернилами и попытавшись начать статью о необходимости сохранения поголовья бизонов, основная масса которых сосредоточилась сейчас в долине к западу от Большого Кряжа.
Однако довольно часто рука ее застывала, чернила высыхали на кончике пера, а в голову лезли мысли о вьющихся волосах Ноа Кемпбелла.
На другое утро за завтраком Саре было неловко от ощущения присутствия Кемпбелла напротив нее, за столом.
И вообще, их встречи приобрели тревожную регулярность — утром и вечером за столом и почти непременно где-то еще в промежутке; и в голове у нее появлялись мысли, какие не должны были бы появляться у женщины, ощущающей себя достаточно разумной. Она все чаще обращала внимание на то, как его волосы упрямо сопротивляются причесыванию, как меняется их оттенок — от цвета красного дерева до цвета мускатного ореха, — когда они, смоченные во время утреннего умывания, начинают постепенно высыхать на протяжении завтрака. Для нее сделались хорошо знакомыми следы, которые оставались на них от шляпы, даже когда та не сидела на его голове, а также пряди, что вылезали из-под нее и торчали у висков, словно перья на хвосте дикой утки.
Ей стал приятен легкий запах мыльного крема для бритья, который появлялся вместе с ним к завтраку, и вид только что выбритой кожи на щеках и на подбородке, под усами. Она познакомилась со всеми его верхними рубашками — каждый день он надевал свежую, а сверху свой неизменный черный кожаный жилет. Знала она красную фланелевую — он носил ее в самое первое утро; зеленую клетчатую — где воротник уже требовал, чтобы его перелицевали; две голубые батистовые, одна из них с тщательно залатанным рукавом на локте, другая — почти новая; еще одну — рыжевато-коричневую, которая так не сочеталась с цветом его лица; и, наконец, белую — эту он надевал по воскресеньям.
Ей стали известны его вкусы в отношении пищи: черный кофе, много соли и перца даже до того, как попробует блюдо, дополнительная порция жареного картофеля к яйцам по утрам; никакой капусты, брюквы или репы — этого он не любил, но зато обожал все остальные овощи; много подливки к мясу — если та стояла на столе; две добавочные чашки кофе во время еды и, наконец, сигарета, взамен сладкого.
Изучила она и некоторые его манеры. Мужчинам он всегда кивал, здороваясь с ними по утрам, ей — никогда. Если слушал что-либо очень внимательно, прикладывал указательный палец к верхней губе. Когда рассказывал что-то смешное, зачастую дергал себя за мочку уха. Без особых затруднений употреблял салфетку, в то время как иные мужчины пользовались с той же целью своими манжетами.
За другими, кто жил в пансионе миссис Раундтри, Сара почти не замечала, к некоторому ее смущению, всех этих мелочей…
Ноа Кемпбелл, в свою очередь, тоже многое узнал о Cape.
В ее одежде преобладали коричневые тона — таких цветов и оттенков были у нее юбки, блузки и жакеты; часы висели всегда на груди немного слева. Белье она относила в стирку по утрам в понедельник, а приносила обратно во вторник к вечеру. Во всем бывала предельно пунктуальна и аккуратна; из своей комнаты появлялась к завтраку с боем часов, ровно в половине восьмого, на ужин — ровно в шесть. Похоже было, что пища совсем ее не заботит — она ест только потому, что без этого нельзя и забывает о ней и обо всем остальном, как только мысли ее чем-то заняты. Он научился распознавать эти моменты, когда она вдруг переставала принимать участие в застольном разговоре, а взгляд ее сосредоточивался и застывал на большой сахарнице. В этих случаях бывало приходилось обращаться к ней дважды, прежде чем она сознавала, что говорят с ней, хотя вообще-то была достаточно внимательна ко всему происходящему и ничто не проходило мимо нее.
Об этом можно было судить хотя бы по ее статьям в газете, в которых рассказывалось о самом, казалось, обычном и заурядном, что набило уже всем оскомину, но под ее пером ординарные вещи превращались в нечто важное и, главное, интересное для жителей Дедвуда и окрестностей.
Средний палец ее правой руки даже вроде бы потерял свою обычную форму от слишком частого писания, и на нем нередко можно было видеть слабые следы чернил.
Что у нее особенно обращало на себя внимание, так это голубые глаза, взглянув на которые, хотелось сделать это еще и еще раз. Если, конечно, она была без очков.
И она выглядела всегда предельно естественной — никакой краски на глазах, на губах; Кемпбелл полагал, что, если бы она вдруг появилась за столом накрашенной, это произвело бы впечатление разорвавшейся бомбы. Ее прическа оставалась одинаковой изо дня в день, если не считать, что пучок мог быть сдвинут с центра затылка чуть-чуть в сторону, как если бы она причесывалась, не глядя в зеркало. Ногти были всегда коротко острижены, а на ногах — чуть ли не единственная пара не слишком подходящих ей башмаков, коричневых, со шнурками, мужского стиля, в которых она ходила и по грязи, и по снегу, и по навозу, устилающему улицы (о чем она регулярно писала в своей газете, призывая начать борьбу с грязью в городе).