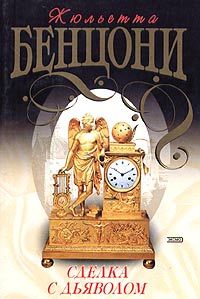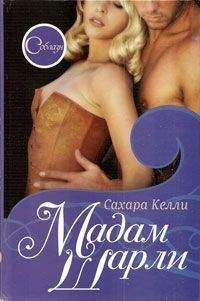Это звучное имя вырвало Гортензию из дремы, в которую она незаметно погрузилась. Зябко поеживаясь, она встала с кресла. Огонь в камине давно погас, она поспешно забросала багровые головни пеплом, чтобы утром прислуга легко могла опять разжечь пламя. Потом, взяв на руки Пушинку, которая от удовольствия замурлыкала, свернувшись клубочком, она задула свечи в гостиной, взяла с сундука в прихожей подсвечник, поднялась в свою спальню и поскорей улеглась в постель, нагретую грелкой, предусмотрительно оставленной Клеманс. Гортензия не удержалась от грустного вздоха: когда Клеманс клала в постель грелку, она была почти уверена, что Жан этой ночью не появится, и предчувствие это никогда ее не обманывало.
Гортензии больше не хотелось ни о чем думать, она мечтала поскорее заснуть, ведь во сне она вновь могла встретиться с Жаном. Едва положив голову на подушку, она погрузилась в глубокий сон. Пушинка, прижавшись к ее боку, замурлыкала еще громче. Вот уж кому повезло, что Жана нет, ведь в его отсутствие она могла блаженствовать в хозяйской постели, а не убираться на свою большую синюю подушку.
Вдовствующая графиня де Сент-Круа собиралась возвращаться в Сен-Флу наутро. На завтрак она явилась в шляпе – странном сооружении из бархата, перьев и фиолетового цвета виноградин – и заняла место за столом против Гортензии. Завтрак был подан достаточно плотный, чтобы смягчить усталость долгого пути в добрые пять лье по дороге, покрытой месивом из снега и грязи. Конечно же, подан был и знаменитый кофе, приготовленный Клеманс, вместе с горной ветчиной, свежим сливочным маслом, вареньем из чернослива и восхитительным «Каде-Матье»,[1] еще теплым, испеченным Клеманс рано утром по личному рецепту Годивеллы, от которого исходил аромат ванили и свежего крема.
Старая дама отведала всего, что было на столе, и не стала возражать, когда Гортензия велела Клеманс завернуть остаток пирога и пару баночек варенья и мармелада из айвы, чтобы гостья подольше сохранила приятные воспоминания о Комбере.
– Милое дитя! Ваш дом – настоящий дворец Феи Тартинки, его и так будет трудно забыть.
– Тогда отчего вы не бываете здесь чаще? Почему бы вам не погостить у нас? Ваш визит был столь кратким, не понимаю, что вас так торопит с возвращением.
– Архиерей рассчитывает на мою помощь в подготовке к Рождеству. Он считает, что никто лучше меня не сумеет украсить ясли и позаботиться об изяществе одеяний их обитателей. Если доверить это дело сельскому старосте, Пресвятая Дева будет похожа на крестьянку с дальнего плоскогорья, а святой Иосиф – на бандита с большой дороги.
– А разве Пресвятая Дева не была чуточку крестьянкой? – улыбнувшись, спросила Гортензия.
– Возможно, только я не желаю этого знать. Во всяком случае, это просто недопустимо в церкви. Так что пора мне убираться восвояси. К тому же с моей стороны просто бессердечно задерживаться у вас. Боюсь, как бы мое присутствие не помешало… другим визитам. Было бы невежливо так отплатить вам за ваше чудесное гостеприимство. У любви свои права, и у меня не хватит духу нарушать их.
– Понимаю. Знаю также, что в этих обстоятельствах вы на моей стороне. Я очень ценю это, потому что, поверьте, иногда я и сама не знаю, как себя вести.
– Мой возраст дает мне право давать вам любые советы, дорогая моя Гортензия, но я лучше воздержусь. Я только задам вам один, последний вопрос… если позволите.
– Прошу вас.
– Любовь предполагает определенный риск, вам это известно. Что вы будете делать в случае беременности?
Гортензия поняла, насколько важен этот вопрос, ведь именно ради него и проделала старая графиня это путешествие из Сен-Флу. Вопрос и вправду был серьезным, даже если до сих пор она никогда об этом не спрашивала. Вместо нее об этом думал Жан, и его поведение – результат его раздумий.
Она тихо ответила:
– Я думаю, что я буду очень счастлива. Плохо, когда ребенок растет один…
– Подумайте о последствиях, о толках, которые поднимутся: графиня де Лозарг ждет внебрачного ребенка, это неслыханно! Ваш сын Этьен уже носит титул маркиза де Лозарга, вы не можете нанести ему подобного оскорбления.
– Он пока еще слишком мал, чтобы почувствовать это оскорбление, но, если вы думаете о будущем, я полагаю, что так или иначе подобное событие поможет мне разрешить вопросы, над которыми я бьюсь, так как это заставит Жана жениться на мне.
– Но брак с ним в глазах света станет не меньшим скандалом!
– Свет меня не интересует, дорогая графиня. Единственное, что имеет в моих глазах смысл, – это жить в мире с богом и собственной совестью. Я знаю, что наш дорогой каноник охотно благословит мой брак с Жаном. И почему бы не держать его в тайне, чтобы я могла сохранить свое имя?
– Возможно. С условием, конечно, что это будет не такой уж страшный секрет и слух о браке просочится где-нибудь… На этом позвольте с вами проститься, милое дитя, и еще раз поблагодарить вас за то, что побаловали старую чревоугодницу, и главное, что выслушали ее. Я, право, очень вас люблю. Когда мне было столько же лет, сколько вам, я была почти такой же…
Она уехала. Гортензия смотрела вслед ее карете, как недавно провожала взглядом повозку Годивеллы, но настроение у нее на этот раз было совсем другое. Графиня возродила ее вкус к борьбе. Этот визит напомнил о сомнениях, терзавших ее с момента выздоровления Жана. Гибель маркиза де Лозарга вовсе не означала, что для нее наступило полное счастье. Оставалось еще столько препятствий, преодолеть которые будет гораздо труднее, чем ей казалось раньше. Но теперь она была готова к борьбе.
Она в задумчивости вернулась в дом, прошла на кухню, где Жанетта успешно скармливала «господину маркизу» сладкую кашу. Этьену было уже полтора года, и к великой радости своих обожателей, отсутствием аппетита он не страдал. Он глотал все как прожорливый птенец и рос как на дрожжах, обнаруживая признаки характера, достойного своих доблестных предков. Малейшее противоречие вызывало у него яростный рев, однако страдания, которые не миновали его при прорезывании зубов, переносил с удивительной стойкостью. Только слезы, тихо струящиеся по смуглым щечкам, показывали, как ему больно, и от этой так мужественно переносимой боли у Гортензии, Жанетты и Клеманс все внутри переворачивалось и не хватало духа наказывать его потом за капризы. Он уже начинал робко ходить, зато на четвереньках передвигался так быстро, что за ним нужен был глаз да глаз.
Увидев мать, Этьен принялся щебетать, как воробышек по весне, потом, вырвав из рук Жанетты ложку, забарабанил по тарелке с кашей с такой энергией, что вызвал негодующие крики кормилицы: