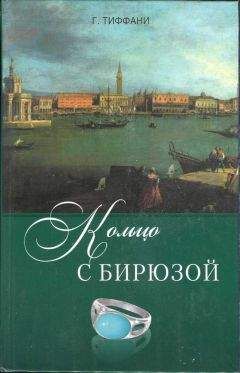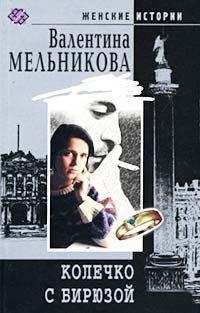На широкой улице княжьего городища народу немало. Всяк поспешал домой после долгого дня. И не сказать, чтоб толпа, но идти вольным шагом никак не можно: навстречу десяток людишек, за спиной – десятка два.
– Пойдем на бережок? – Илларион свернул в проулок, Настя – за ним.
Попетляли малость среди заборцев, перебрались через канавку неглубокую а уж потом по кривенькой улочке и вышли к реке, уселись на траву и ноги вытянули: поп со вздохом тяжким, Настя – с тоскливым.
– Ты сказать хотел, святой отец, – Настя ждала слов мудрых.
– Скажу, – поп кивнул, а потом опустил ладонь с долгими пальцами на тонкую руку Настасьи. – И раньше бы рассказал, но об таком тяжко. Нынче вижу, что тоска тебя одолевает, потому и сил во мне прибыло.
– Батюшка, что ты? – приметила боярышня печальный изгиб бровей Иллариона и затревожилась.
– Обо мне не думай, слушай, что расскажу... – поп задумался ненадолго, но не смолчал: – К богу я пришел через большой грех, Настенька. И свой, и той, которая жизни себя лишила, да дитя во чреве своем не пожалела. Мне шестнадцать зим стукнуло, когда в весь нашу семейство пришло. Погорельцы, шли далече, искали нового места. Средь них девушка была, Наташей звали, старше меня годка на четыре. Видная, статная, но и иного в ней много было. Взгляд горячий, нрав неуемный. Веселая, смешливая. Парни весенские вились вокруг нее, заманивали, не глядели, что перестарка и бесприданница. Я и сам полыхнул, потянулся к ней. Да куда там, на меня, сморчка тощего, и не глядела, привечала воев покрепче, да годами ей ровню. Я упрямый тогда был, как бычок молодой. Ходил за ней по пятам, помню, песни ей пел. Она раз поглядела на меня, другой, а потом уж и сама ко мне приникла. Любил я ее крепко, а она во мне души не чаяла. По младости сердечный пыл унять тяжко, особо, когда тянет друг к дружке. Весна была, так по майской ночи Наташа женой мне стала. Нет, не венчались, любились. Я хотел в дом ее привести, отцу и матери показать как жену, но не случилось, – Илларион глаза прикрыл, вздохнул тоскливо.
– Что, батюшка, что? – Настя уж и слез не прятала, ждала страшного, да не ошиблась.
– Ввечеру привалил на подворье соседский сын, Власька. Улыбался глумливо, об Наташе мне говорил. По его выходило, что муж я у нее не первый. Я и озлобился, – Илларион утер слезу. – Наташе сказал, чтоб обходила меня стороной, а сам запил. Любил ее сверх всякой меры, краев не видал. С того и горе мое большим стало, но и злоба стократ взросла. Больше любишь, больше страдаешь, больше ненавидишь. Через седмицу Наталью из петли достали. Удавилась на вервие в старом овине. Мать ее взвыла, на меня пальцем указала и поведала, что Наталья непраздна была.
– Господи, помилуй... – Настя обняла святого отца, голову ему на плечо склонила, утешала. – Батюшка, миленький, да как же?
– А вот так. Власька правду сказал, муж я ей был не первый. Но меня любила, мною дышала, а я в обиде своей парнячьей позабыл об том. Я к чему это, Настя, а к тому, что вера во мне пошатнулась тогда, вера в любовь ее, в мою любовь. Поздненько я понял, что сам счастье свое отпустил, хуже того – убил. И дитя невинное, кровь от крови моей, погубил еще до рождения. Настенька, мог бы время вспять повернуть, я б все простил ей. И Влаську, и Ваську.... А такого чуда не свершится уже. Бог уж явил мне однажды чудо, дар великий любовный, а я в гордыне своей и ревности отринул его. Грех свершил и ее, Наталью, толкнул на грех еще больший. Моя вина, во всем моя вина и ничья более, – Илларион перекрестился. – Схоронили Наташу, так я и ушел из дому. Бродяжничал, добрался до самого Новограда, а там попал на ладью царьгородскую. Церковники пришли на ней, я и подвизался помочь. При храме и обрел свой путь. Молюсь о спасении души Наташиной неустанно, уповаю, что услышит Господь и даст ей прощение.
– Батюшка, родной мой, за что себя казнишь? – Настя гладила ласковой ладошкой Илларинову голову, жалела, плакала.
– За то, Настя, что стал последним ее мужем. Останься она жива, и так бы был последним. Любила. А я веру утратил и за злобой своей ничего не видел. Вот как ты теперь, Настенька. Ни неба красивого, ни божией благодати не узрела. Все неверием заволокло, ослепило тебя. Я Вадима твоего не знаю, но вот, о чем думаю – был бы таким, каким тебе кажется, за себя бы не звал. Кто ты? Сиротка беззащитная, бедная, безродная. Почто о свадьбе говорил? Захоти он так и была бы ты при нем невенчанной. Он бы и боярыне Ульяне укорот дал, супротив бо ярого женщине не выстоять. Зина твоя верно сказала, ехать тебе пора. Спроси себя, веришь ты ему иль нет, сердце послушай, не чужие речи. Не сладится меж вами, вернешься ко мне, а сладится, я сам пойду в Порубежное и сам тебя венчаю, – Илларион крепко обнял боярышню и уж совсем тихо прошептал ей на ухо: – Настя, он ведь отпустил тебя. Сколь раз ты говорила, что плохо тебе в крепости? Сколь раз просилась уехать? Если любит тебя, так каково ему сейчас? А он за тобой не пошел, не иначе думает, что тут тебе счастье. Себе сердце рвет, а тебя сберегает.
– Батюшка, а если нет? – Настя ждала Илларионовых слов, дышать перестала, глядела в глаза его мудрые.
– Об том не думай, моей дурости не совершай. Ты об ином размысли. Норов вой, случись рать, так он щадить себя не станет. Под чужой меч подлезет, как Наташа в петлю, и уж тогда не вернешь его сколь не проси. Ты уж себя послушай, размысли, стоит обида твоя его жизни?
– Зачем? – Настя вскочила, заметалась! – Зачем говоришь такое?! Пусть жив будет!
Илларион не ответил, глядел молча. В глазах его увидала Настасья тяжкую тоску, да боль, какую и унять-то нечем. Рухнула перед ним на коленки и зашептала часто, быстро:
– Поеду, батюшка. Поеду. Пусть мне плохо будет, но его сберегу, если слова твои правдой обернутся.
– Поспеши, – Илларион мягко пригладил непокорные кудряхи. – Утресь обоз пойдет до Порубежного.
От автора:
Косу смахнет начисто - отрезать косу девушке - позор и большое наказание на Руси. И не только на Руси. Женщины многих народов, желая отомстить или обидеть, отрезали волосы соперницам или тем, кого ненавидели.
Глава 32
– Вадимка, глянь урожай-то этим годом каков, – Никеша вертел головой, сидя верхом на смирном пегом мерине. – Новь богатая, а все по жаркому лету. Кто ж знал, что так рано со страдой управимся. Эх, самое время свадьбы играть. Вадимка, чего сопишь? Злобишься, что сам не венчанный? А все по дурости твоей и кобелячеству, – зловредный ухмылялся глумливо, поспешая за боярином.
Норов почитай две седмицы не вылезал из Гольянова: ратных отпустил по домам хлеба собирать, сам же остался с верным ближником Бориской, мучил его и себя всякой работой. То дом пожженный растащить по бревнам, то поставить новый забор семейству, какое осталось без кормильца, то крыльцо подправить. И все молча, без сердца и злобы. Маял себя Норов тяжким трудом, тем, может, и забылся бы, если б не зловредный Никешка, который поперек боярского указа явился из Порубежного.
Писарь донимал Норова: ходил по пятам, ныл, скулил да и грозился, что Настасью вскоре сосватают в княжьем городище и только Вадим ее и видел. С тех слов у Норова сжимались крепко кулаки и едва зуб не крошился. Но боярин молчал, терпел и отворачивался от говорливого дедка.
Второго дня дед и вовсе домаял, собравшись помирать: лег на подворье Гольяновском и руки на груди сложил. Вадим поднял зловредного за шкирку, встряхнул и не снёс тоскливого писарева взгляда. Рыкнул на Никешу, велел ему складывать пожитки и трогаться в Порубежное. Вместе с ним и сам засобирался. Вот по погожему деньку после трудного утра и горячей бани ушли из Гольянова малым отрядцем: Норов, трое ратных и Никешка – коряга старая.
– Вадимка, хоть слово кинь, – дед осердился. – Вторую седмицу только спину твою и вижу. Молчишь да молчишь! Язык-то не проглотил, нет? Сколь тебе, изуверу, еще втолковывать, чтоб за Настей ехал, а?
Норов смолчал по обыкновению своему, но взглядом на деда высверкнул. Знал бы зловредный, сколь сил ушло у Вадима на молчание, на терпение и смирение, может, не куролесил так, не донимал.