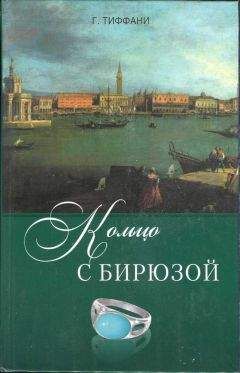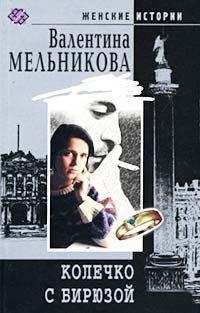– Вадька, кобелина, ты не поедешь, я за ней пойду! – писарь тронул коня, поравнялся с Норовым. – А ну как плохо ей там? Сидит пташка наша, плачет. Кулачки-то у ней маленькие, небось ими по щекам слезы размазывает. Кудряхи-то поникли, не иначе.
Норов отвернулся от дедка, зубы сжал и принялся глядеть на поле, где в ряд шли бабы и мужики, смахивали золотистые колосья серпами и ловко увязывали в снопы. Вадим засмотрелся, да не на работу чужую, а на пшеничку, разумея, что ровно вот такие они, Настины кудри: светлые, золотистые. С того сердце больно сжалось. А как иначе? Что если правый Никешка, и Насте теперь худо не меньше, чем ему, Норову?
Боярин головой тряхнул, собрался наново озлобиться, да не смог. Устал перечить самому себе, измучился и разумел, что подошел к самому краешку.
– Вадимушка, ты чего? – писарь жалобно глядел. – Ты не пугай, не пугай меня, родимый. Глядишь так, что тошно делается. Вадим, верни ее, верни, сказал. Ты ж с ней задышал, а ныне мертвяком на меня смотришь. Стал такой, как был, и глядеть на тебя мука мученическая, – после этих своих речей Никеша всхлипнул, утер нос рукавом.
Норов глядел на дедка, разумея, что самому хочется взвыть да громко, во весь голос. Но себя сдержал, смолчал. Почуял только, что далее так не сможет.
– Ночью тронусь в княжье городище, – Норов высказал изумленному писарю и сам успокоился, будто скинул с плеч гору, а то и две.
– Какая ж ты, Вадька, скотина, – улыбался зловредный дедок. – Едва в гроб меня не вогнал. Езжай вборзе, поспешай.
Дале малый отрядец шел уж быстрым ходом. После полудня остановились у реки, морды умыли, пожевали хлебца и запили теплым кваском, какой сыскался у ратника Андрюхи. Потом наново в седла забрались и были близ ворот Порубежного к закатному солнцу.
Писарь боле не говорил ничего, улыбался, что кот, какому под нос сунули мису с жирным молоком. А вот Вадим снова принялся размысливать, а вслед за тем и злобиться. А как иначе? Обидела кудрявая, сбежала и уселась под боком у Иллариона. Норов и вовсе вызверился, когда мыслишку поймал, что позабыла его боярышня ровно в тот час, когда ушла из крепости.
– Батюшки святы… – писарь глаза выпучил и уставился вперед себя. – Глазам не верю…
Норов оглядел писаря, а уж потом повернулся и увидал Настасью. Та стояла малым столбушком под крепостной стеной возле куста боярышника. Вадим, как давеча и Никеша, глазам своим верить отказался. Поверил сердцу, что заухало сей миг и рванулось куда-то. Вадим так и не разумел – взлететь оно хочет иль рухнуть.
– Настя-то умней тебя оказалась, – Никифор указал пальцем на боярышню. – Вот ступай теперь и винись.
А Норов застыл. Обрадовался, но и обидой больно обдало. Сидел верхом и глядел на Настасью издалека, все разуметь не мог – к ней бежать иль от нее.
Через миг затрепыхался, с седла соскочил и пошел к кудрявой, примечая, что и она сама двинулась к нему. Чем ближе подходил, тем муторнее делалось. Видел уж и кудри, и глаза бирюзовые, а промеж того и руки ее – тонкие, бледные – и запавшие щеки, и стан исхудавший, и горестно изогнутые брови. О себе и не вспомнил теперь, глядел на любую и тревожился.
Еще шаг, другой и рядом Настя. Глядел Норов неотрывно, взглядом ее жёг, а брови супил грозно.
– Вадим… – прошептала, вскинула руки и шагнула к нему.
Норов замер, все силился угадать – обнять его хочет иль пнуть побольнее? Стоял и поедом себя ел, глядя на тоненькие ее пальцы и слезы, какие уж закипали в бирюзовых глазах.
Боярин качнулся было к Насте, но тут как назло ратник высвистал, засмеялся, вслед за ним и второй хмыкнул понятливо, а потом влез Никеша:
– Чего грохочете, ироды?! А ну пошли отсель! – и замахал руками потешно. – А ты чего? Ступай, ступай, кому говорю!
Норов заметил лишь, что Настя руки опустила и спрятала за спину. Стояла, низко склонив голову и, по всему видно, стыдилась.
– Не пойду! – Кричала Зинка, какую Вадим не сразу и заметил. – Боярышню одну не оставлю!
– Я тебе не пойду, я тебе так не пойду! – Никеша сполз с седла и проворно кинулся к девке. – За косу сволоку! Андрюха, гони ее!
Вой глянул на Норова, глумливо подкрутил ус, подмигнул и погнал несчастную Зинку к воротам, за ним, хохоча, тронулись и остальные. Послед ушел зловредный, уводя с собой и мерина пегого, и коня боярского.
Тихо стало вокруг. Норов стоял не шевелясь, все глядел на кудрявую Настасьину макушку и думок в голове удержать не мог. Носились, чумные, хороводились и пропадали.
– Тётку приехала повидать? Иль на торг? – Вадим не снёс молчания, спросил и двинулся наугад, не разбирая дороги.
Настасья не ответила ничего, но Норов знал, чуял, что идет за ним – ближе не встает и дальше не отходит. Так и шли, покуда Вадим не влетел в куст боярышника, едва не расцарапав себе щеку долгим и крепким его шипом.
– Да чтоб тебя… – боярин удержал крепкое словцо и повернулся к Настасье. Та стояла, как и прежде, опустив низко голову.
– Что ж молчишь, боярышня? – спросил и задумался об том, с чего она у ворот-то оказалась. – Ждешь тут кого? Иль так пришла, время скоротать?
Она вздрогнула, голову подняла и в глаза ему посмотрела. Если Вадим сей миг не рухнул, так то по счастливому случаю, иначе и не скажешь. Взгляд-то у Насти такой, какого и не видал никогда. И печаль в нем, и горе большое, но и свет неземной.
– Что, Настя, что? Что нужно тебе? Зачем вернулась? – не сдержался Норов, подступил к боярышне. – Уехала, так и сидела бы там! Не смотри так! Сказал, не смотри! – заметался. – Тебя поп не кормит?! Одни глазищи и остались! – снова встал возле нее, в глаза заглянул и погиб. – Настя, здорова ли? Что с тобой? – голосом дрогнул, руки протянул и взял боярышню за тонкие плечи.
– Вадим, а ты-то? – потянулась положила теплую ладошку ему на щеку. – Исхудал, потемнел, – брови изогнула горестно.
Норов сей миг и разумел – мозги вышибло начисто. Но тому обрадовался и ткнулся слепым щенём в душистую Настину ладонь, а чтоб не отнимала еще и своей прикрыл, сжал крепенько. Так бы и стоял, но взыграло:
– Погоди, Настя, – отпустил ее руку, прищурился недоверчиво. – Тебя тётка Ульяна позвала? Ты зачем вернулась? Меня жалеть?! – сам в себе злобу взращивал, а она взвивалась покорно. – Обойдусь! Ступай туда, откуда пришла!
Боярышня зажмурилась, сжалась, но не отошла. С того Норов себя обругал: уж чего-чего, а пугать кудрявую не хотел.
– Что трясешься? – брови изгибал грозно. – Когда я тебя обижал-то?
Настя приоткрыла один глаз, оглядела злобного, потом и второй распахнула. Вадим хоть и сердился, но разумел – сей миг улыбаться начнет: уж очень потешной смотрелась боярышня.
Хотел наново приступить с расспросами, но загляделся на Настасью. Та закусила губёнку, смотрела так, будто сказать чего хотела. Потом уж открыла рот, да так и замерла, затем выдохнула и голову опустила.
– Ладно, молчи. Постою, подожду. Мыслю, долго стоять придется. Деревом стану, дожидаясь, – высказал и принялся глядеть на боярышню.
А та, бедняжка, маялась: руки к груди прижала, потом опустила, затем наново подняла. Все металась взором по лужку, по кусту, будь он неладен, а вот на Норова смотреть не спешила.
– Настя, упреждаю, я отсюда не уйду, пока не признаешься зачем явилась, – не выдержал, подступил ближе и уж руку протянул ухватить кудрявую за плечо.
В тот миг с заборола смешок послышался развеселый, вслед за тем посвист глумливый, а потом молодой парнячий голос: шутейник принялся за частушки, подначивал. В том парне угадал Вадим лихого сына кузнеца Лабутова, потому и повернулся, поднял голову, глянул на дурашливого. Парень песней своей подавился, узнав Норова. А уж потом, когда большой Вадимов кулак узрел, то и вовсе отскочил от бойницы.
Норов обернулся туда, где боярышня стояла, а ее и не увидал. Вот то и напугало до синевы в глазах!
– Настя! – крикнул грозно, будто ворога стращал.
– Здесь я, Вадим, – боярышня выглянула из-за его плеча, видно, пряталась за его спиной от охальника.