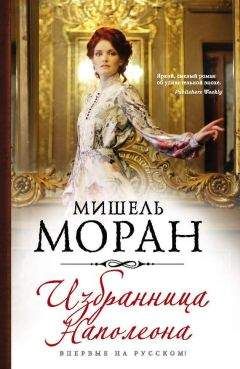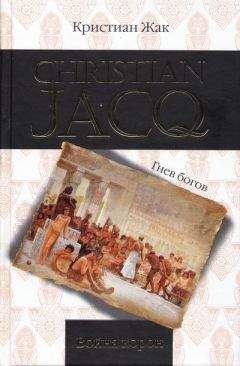— Не сказал, но думаю, в течение года.
Она откидывается на спинку кресла и стонет.
— А вдруг я не доживу, Поль?
Не дожидаясь ее просьбы, я сажусь рядом, и мы вместе смотрим в пустой зал.
— Думаете, болезнь настолько серьезна?
— Не знаю. Иногда мне так плохо, что я ноги не таскаю.
— Тогда велите слугам вас носить.
— А потом, — со страхом спрашивает она, — что потом? Придется бросить танцевать? Ходить?
Она поднимает голову, смотрит на светильники и проводит рукой по глазам.
— Болит всегда только живот?
— Бывает, и спина. А то и все тело. Но болит уж больно сильно! — Она опускает руку ниже. — Ты не представляешь…
Наварра, март 1811 года
«Сир, посреди потока поздравлений, получаемых вами со всех концов Европы, из каждого маленького европейского городка и от каждого полка вашей армии, может ли достичь вашего слуха слабый голос женщины и удостоите ли вы своим вниманием ту, что так часто утешала вас в ваших невзгодах и утоляла ваши печали, особенно теперь, когда она говорит с вами лишь о том великом счастье, в котором воплотились все ваши чаяния? Не являясь более вашей супругой, смею ли я поздравить вас с тем, что вы стали отцом? Да, сир, и без колебаний, ибо в душе моей все еще живо справедливое отношение к вам, и это вам хорошо известно. Мне понятны все чувства, которые вы должны сейчас испытывать, точно так же, как и вы без труда угадаете, что в этот момент чувствую я, и, несмотря на разлуку, нас объединяет взаимопонимание, способное пережить любые невзгоды.
Я могла бы рассчитывать, что узнаю о появлении на свет Римского короля лично от вас, а не по звукам орудийного салюта в Эврё и не от курьера, посланного префектом. Однако я понимаю, что ваше внимание в первую очередь обращено на дела государства, иностранных министров, на вашу семью и особенно на ту счастливую принцессу, которая осуществила ваше самое заветное желание. Она не может быть более преданна и нежна к вам, чем я; но она сумела сделать вас счастливее, внеся свой вклад в благополучие Франции. Следовательно, она имеет право занимать главное место в вашем сердце и быть первым предметом ваших забот; я же, которая всего лишь делила с вами трудные времена — я могу просить у вас лишь самой малой привязанности, не идущей ни в какое сравнение с той, что вы испытываете к императрице Марии-Луизе.
Не раньше, чем вы закончите ваши бдения у ее постели, не раньше, чем вы устанете прижимать к груди своего сына, возьмете вы в руки перо, чтобы написать своему лучшему другу; что ж — я подожду. Мне станут писать Евгений с Гортензией, делясь своими радостями. Но только от вас я желала бы знать, здоров ли ваш малыш, похож ли на вас и дозволено ли мне будет когда-то взглянуть на него; иными словами, я ожидаю от вас безграничного доверия, на которое, как мне представляется, я имею некоторое право, с учетом, сир, бесконечной преданности, какую я сохраню к вам до конца своих дней.
Жозефина»Императрице в Наварру
Париж, 22 марта 1811 года
«Любовь моя, я получил твое письмо. Благодарю тебя. Мой сын крепок и чувствует себя превосходно. Надеюсь, он во всем преуспеет. У него моя грудь, мой рот и мои глаза. Я надеюсь, он сумеет выполнить свое предназначение.
Евгением я неизменно доволен. Он ни разу меня не разочаровал.
Наполеон»Фонтенбло
Июнь 1812 года
Я сижу перед туалетным столиком и стараюсь дышать ровно. Всего один выход. С этим справлялся даже мой брат Фердинанд. Однако сейчас, пока меня причесывает камеристка, а я жду Гортензию с комплектом моих парадных украшений, я не могу не думать о Марии-Антуанетте. Вот так же около двадцати пяти лет назад она сидела в этой комнате в окружении похожих дам в похожих драгоценностях, и к ней явились министры сообщить, что Франция на пороге революции.
Сегодня мужнины генералы объявят, что мы находимся в состоянии войны, а чем это лучше революции? На улицах будет стоять плач. Женщины окажутся без средств к существованию и без защитников. А когда домой начнут возвращаться калеки и будут публиковаться списки погибших, все взоры обратятся к нам. Мы будем в ответе за все их несчастья.
— Готовы, ваше величество? — Гортензия открывает тяжелую бархатную шкатулку и достает корону, усыпанную бриллиантами и рубинами. Следом извлекаются такое же ожерелье и серьги. Это свадебный подарок Наполеона. Пока она завершает мой туалет, я закрываю глаза, а потом смотрюсь в зеркало и хмурюсь. Кто эта женщина, чей муж собирается отправить семьсот тысяч человек на войну? Почему она не поспешит в зал заседаний Госсовета и не остановит его?
Но я займусь тем, что мне вчера вечером поручил Наполеон. И когда домой станут прибывать раненые, нуждающиеся в лечении, к их услугам уже будут готовы койки в госпиталях. А когда появятся вдовы, в одночасье лишенные и мужа, и дома, то для воспитания их детей из казны уже будут выделены средства. Тяготы, выпавшие на долю Австрии, Францию минуют.
— Все закончится в двадцать дней, — напоминает Гортензия. — Так он говорит. — Но император умеет много обещать такого, что потом не сбывается.
Я стою и разглядываю свое отражение. В красном шелковом платье и белых летних туфельках в самую пору отправляться на озеро на пикник. Только корона на голове и бриллианты на шее с этим как-то не вяжутся.
— Сначала я хочу пойти к сыну, — решаю я.
Гортензия переглядывается с фрейлиной, но обе молча сопровождают меня в детскую.
— Maman! — кричит Франц при виде нас.
Я замечаю, что его учитель изумлен тем, что я явилась днем.
— Ваше величество. — Он поднимается, а Франц выбирается из-за своей крохотной парты и бежит ко мне.
— Maman! — снова кричит малыш, и сердце мое переполняет гордость. Ему всего шестнадцать месяцев, но он уже знает c десяток слов, и два из них означают «мама».
— Как твои дела, солнышко? — спрашиваю я, присев на корточки, чтобы быть с ним вровень. Он чмокает меня в щеку, потом оглядывает мой наряд и украшения и выдыхает:
— Ох!
Детский ротик складывается в идеальное «о». Я чувствую, как сердце разрывается от нежности. Он самый красивый ребенок во всей Франции! Головка в золотых кудряшках, а глазки — цвета морской волны. Сейчас они смотрят на меня с обожанием.
— Как его успехи? — спрашиваю я его наставника, и немолодой человек показывает на стопку книжек.