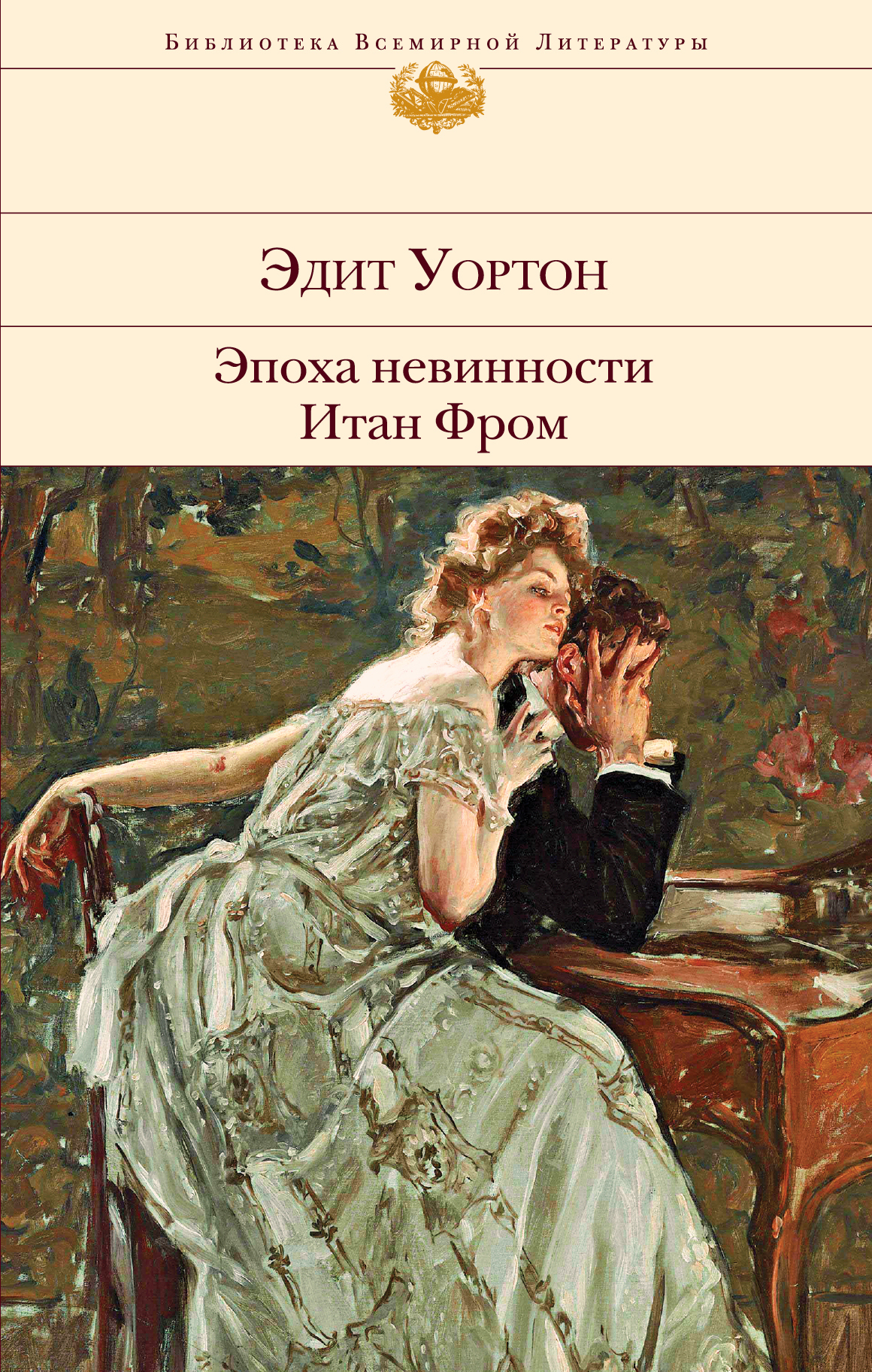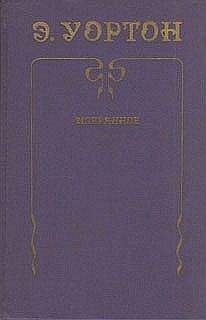им жене по возвращении, было великолепным настолько, насколько и следует быть дарам, принесенным во искупление греха. Состояние Бофорта могло выдержать подобные траты, и все же не только Пятая авеню, но и Уолл-стрит полнились упорными волнующими слухами. Некоторые говорили, что он неудачно вложился в железные дороги, другие утверждали, что средства его истощила одна из самых ненасытных представительниц своей профессии, но на все слухи о грозящей ему несостоятельности Бофорт отвечал очередными экстравагантными выходками – строительством новых теплиц для выращивания орхидей, покупкой новых скаковых лошадей или прибавлением новых полотен Месонье [49] или Кабанеля в свою картинную галерею.
К маркизе и Ньюленду он подошел с обычной своей глумливой ухмылкой:
– Привет, Медора! Как вели себя мои рысаки, не подкачали? Сорок минут, а? Не так уж плохо, учитывая необходимость поберечь ваши нервы. – Он пожал руку Арчеру, а затем, встав с другого боку от миссис Мэнсон, добавил еще несколько слов тихим голосом, так что миссис Мэнсон его не расслышала.
Маркиза, как-то экстравагантно, по-французски дернувшись, переспросила: «Что? Que voulez-vous?» [50], – чем заставила Бофорта сдвинуть брови, но он тут же изобразил улыбку, с которой обратил к Арчеру любезное: «Знаете ли, Мэй из всех здесь присутствующих заслуживает высшей награды!»
– Ах, так, значит, награда остается в семье! – расплылась в улыбке Медора, и они подошли к шатру, возле которого их встретила миссис Бофорт в облаке девственно-розового муслина и развевающихся вуалей.
Как раз в эту минуту из шатра вышла Мэй Уэлланд в белом платье, опоясанном на талии зеленой лентой, и в шляпке, украшенной венком из плюща. Вот такой же девственной дианоподобной отстраненностью веяло от нее в тот вечер, когда на балу у Бофортов было объявлено о ее помолвке. Казалось, что за время, истекшее с тех пор, ничто не приковало к себе ее взгляда и ни единое чувство не шевельнулось в ее душе, и хотя муж ее знал, что это не так, что ей присущи способность и видеть, и чувствовать, но он в который раз изумился той легкости, с какой отлетают от нее все переживания.
В руке у нее были лук со стрелой, и, встав у проведенной мелом черты, она вскинула к плечу лук и прицелилась. Поза ее была исполнена такой классической грации, что в публике раздался шепот одобрения, а Арчер почувствовал радость собственника, уже не раз служившую ему временной заменой довольства жизнью. Соперницы Мэй миссис Реджи Чиверс, девицы Мерри и цветник разнообразных Торли, Дагонетов и Минготов сгрудились за ней прелестной и полной нетерпеливого азарта группой – головки темные и золотистые склонились над доской с подсчетом очков, а палевых цветов муслины и цветы на шляпках слились в нежную радугу. Все они были юны, хороши собой, и красоту их озаряли лучи яркого летнего солнца, но никто из них не обладал той свободой и грацией нимфы, с какой его жена, радостно сосредоточенная, напрягая мускулы, готовилась показать свое физическое совершенство.
– Господи, – услыхал Арчер вздох Лоренса Лефертса, – никому так не идет лук, как ей!
– Да, но это единственная мишень, которая ей доступна, – отозвался Бофорт.
Арчер ощутил беспричинную ярость. Хозяин дома отдал дань красоте Мэй, и всякий муж хотел бы слышать такой комплимент в отношении жены, а то, что этот примитивный человек счел Мэй недостаточно привлекательной – всего лишь дополнительный знак качества, которым она удостаивается, и все же слова его отозвались в душе Арчера легкой дрожью холода: что, если «красота» в своем наивысшем выражении становится качеством уже отрицательным, превращаясь в подобие завесы, скрывающей пустоту? И, глядя на Мэй, раскрасневшуюся после своей победы, но хранящую невозмутимость, он вдруг подумал, что приподнять эту завесу он еще не сумел.
Поздравления соперниц и всех собравшихся Мэй принимала с изяществом совершенной простоты. Никто не мог ревновать ее к успеху или завидовать ей, потому что всем видом своим она умела показать, что и к поражению своему она отнеслась бы столь же спокойно. Но когда она встретилась взглядом с мужем, лицо ее засияло от радости, которую она увидела и на его лице.
Плетеная колясочка уже ждала их, и они двинулись вместе с толпой других разнообразных экипажей – Мэй правила лошадьми, Арчер сидел рядом.
Послеполуденное солнце еще играло на зелени лужаек и кустарников, а по Бельвю-авеню в два ряда тянулись потоком двухместные «визави», ландо и экипажи-«виктория» с откидным верхом, увозившие нарядных дам и джентльменов либо с садового празднества у Бофортов, либо просто домой после дневной прогулки по аллее вдоль набережной.
– Не заехать ли нам к бабушке? – неожиданно предложила Мэй. – Мне хочется самой рассказать ей о том, что я выиграла приз. До обеда у нас еще полно времени.
Арчер согласился, и они, направив пони по Наррагансет-авеню, пересекли Спринг-стрит и покатили по направлению к каменистой пустоши. В этом немодном месте, на дешевом участке над заливом, Кэтрин, всегда безразличная к мнению окружающих, но очень прижимистая, еще в юные свои годы выстроила зубчатое, с поперечными балками строение, декорированное в стиле сельского коттеджа. Здесь из рощи низкорослых дубов простирались над усеянными прибрежными островками водами веранды ее дома. Подъездная аллея, извивавшаяся между рядами железных оленей и синих стеклянных шаров, венчавших клумбы с геранью, вела к входной двери из полированного ореха и полосатому навесу веранды, за которыми тянулся узкий холл с черно-желтым звездчатым паркетом и дверями четырех маленьких квадратных комнат, оклеенных бумажными обоями и с потолками, на которых домашний архитектор-итальянец изобразил все олимпийские божества, какие только мог предположить. Когда непомерный груз плоти почти обездвижил миссис Мингот, одна из этих маленьких комнат была превращена в ее спальню, в смежной же она проводила дневные часы, восседая в широком кресле между дверью и окном и обмахиваясь время от времени веером из пальмовых листьев, который необъятный выступ ее груди заставлял держать на отлете и так далеко от ее персоны, что движение воздуха достигало лишь подлокотников кресла.
Так как свадьбу ускорило именно ее вмешательство, старая Кэтрин высказывала Арчеру знаки сердечной симпатии, из тех, которые всегда выказывает благодетель облагодетельствованному им человеку. Она была убеждена в том, что нетерпение Арчера вызывалось пылкостью его страсти, а будучи сама горячей сторонницей безудержных страстей и прочей непредсказуемости (не связанной, впрочем, с денежными тратами), она встречала теперь его хитроватым заговорщическим прищуром и игривыми замечаниями, смысла которых Мэй, к счастью, не улавливала.
С большим интересом и одобрением она рассматривала стрелу с бриллиантом на конце, которую в финале соревнования пришпилили на грудь Мэй, заметив при этом, что в ее время филигранную брошь в таком случае посчитали бы вполне достаточной, однако Бофорт, конечно, повел