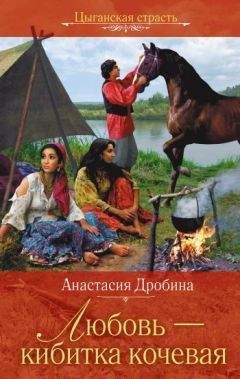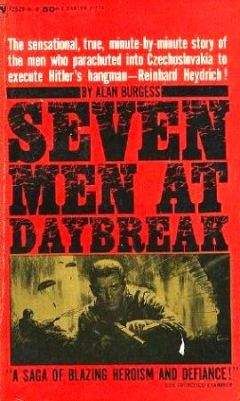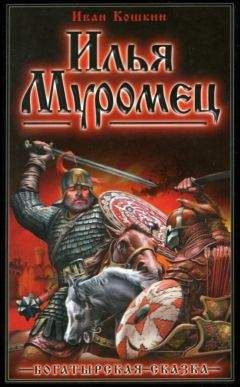– Оживели, черти копченые… Вон как по дворам гоняют! Как чуть пригреет – так им уже и не сидится, вот ведь кровь бродяжья… Завтра ни одного цыгана в округе не останется!
На этот раз обыватели ошибались: один цыган все-таки готовился остаться и посему с утра сидел на поленнице в своем дворе злой как черт. Всю зиму Илья готовился к тому, что им с женой придется куковать в Смоленске до Настиных родов, всю зиму втихомолку надеялся, что Настя родит пораньше и они все-таки уедут вместе с остальными, один из всех радовался тому, что весна задерживается, но… Вот уже весь табор собирает кибитки, чистит лошадей и вяжет узлы, а он сидит, как ворона, на этих сырых бревнах и ждет невесть чего. И с чего это Настьке не рожается?.. Пузо уже такое, что в дверь насилу проходит, три шага сделает – садится отдыхать и дышит, будто бревна ворочала, а все никак… Как назло, проклятая, делает! Завтра все уедут, а он что будет здесь делать? По Конной в одиночку скакать? На Настькин живот смотреть да часы считать? А вдруг она вовсе раньше лета не управится? Тогда что?! Догоняй потом табор, ищи его бог весть где… Вот послал Бог наказание!
На двор, тяжело ступая, едва видная под ворохом разноцветных тряпок, вышла Настя. Илья, прикрыв ладонью глаза от бьющего в них солнца, с неприязнью смотрел на то, как жена с облегчением бросает одеяла на траву и, с трудом наклоняясь, поднимает их одно за другим и развешивает на веревке. Закончив, жена отошла к корыту, стоящему на табуретке у крыльца, и принялась тереть в воде замоченное белье, то и дело переводя дух и вытирая пот со лба.
– Настька! Заняться тебе нечем больше? Чего мучаешься? Приспичило…
– А кто делать-то будет, Илья? – хрипло спросила Настя. – Набралось ведь вон сколько…
– Ну и что? Вся весна впереди! Другие уезжают завтра, вот бабы и рвутся на части, а тебе чего? Сиди, плюй по сторонам!
Илья не хотел обижать жену, да и злиться на нее было не за что, но в его голосе против воли прозвучал упрек, и Настя, бросив белье, медленно пошла к нему через двор. Илья ждал ее, глядя в землю, понимал, что лучше всего ему сейчас уйти прочь со двора, чтоб не вышло греха, но почему-то продолжал сидеть. И, когда тень Насти упала на его сапоги, он не поднял головы.
– Илья, не изводись ты так, прошу тебя… Это же со дня на день случиться может! Может, уже завтра. Или сегодня даже! Я честное слово тебе даю…
– Слушай, молчи лучше! – не стерпев, взорвался он. – Завтра, сегодня! Дай бог хоть к Пасхе в бричку тебя запихать да с места тронуться!
– Илья, да до Пасхи еще месяц почти…
– То-то и оно! Слушай, врала ты мне, что ли? Ну, скажи – врала? До последнего тянуть собралась, чертова кукла?
– Илья…
– Двадцать второй год Илья! – Он вскочил и пошел к воротам. От калитки обернулся, крикнул: – Вот клянусь, не родишь через неделю – один уеду!
Калитка яростно хлопнула, и Настя осталась во дворе одна. Она неловко, тяжело присела на поленницу, где только что сидел муж, вздохнула, зажмурилась, сердито смахнула выбежавшую на щеку слезу. Посидела еще немного, горько улыбаясь и прислушиваясь к нестройному гомону женских и детских голосов за соседним забором, затем встала и, на ходу потирая поясницу, пошла к корыту у крыльца.
Со двора Илья вышел без всякой цели и, лишь пройдя несколько переулков, обнаружил, что ноги сами собой привычно несут его к Конному рынку. Он замедлил было шаг, но идти, кроме Конной, ему было все равно некуда, а возвращаться домой, после того что наговорил Насте, – стыдно. Илья невесело усмехнулся, подумав, что с таким собачьим настроением лучше всего идти собирать долги. Но в этом городе ему никто не был должен, даже Ермолай вернул последние пять рублей за рыжую кобылу (выторговал все-таки, клоп приставучий, всю зиму кровь пил…), и стучащая в висках злость пропадала зря.
– Илья! Смоляков! Боже мой, вот это удача!
Услышав свое имя, Илья остановился и поднял глаза. И тут же улыбнулся: еще хмуровато, но приветливо:
– А, ваши благородия… Дня доброго! Я вам по какой надобности?
– По делу, Илья, – серьезно сказал Николай Атамановский, красивый молодой человек, армейский капитан в отставке, глава большого обедневшего дворянского семейства, которое после смерти матери целиком повисло на его плечах. Его младший брат, двенадцатилетний мальчик в гимназической форме, ничего не сказал и лишь смотрел на Илью полным преклонения взглядом темно-карих глаз с длинными, как у девушки, ресницами. Илья был хорошо знаком с обоими братьями, поскольку из всех прежних богатств у Атамановских остался лишь известный в городе и окрестностях конный завод. Лошадей у них было немного, но лошади эти были хорошими, настоящей, непорченой породы, а по поводу белой, как снег, орловской трехлетки Заремы Илья говорил с нескрываемой завистью:
«Эх, ваша милость, Николай Дмитрич, кабы я слово не дал, – только бы вы Зарему и видели!»
Николай смеялся, ничуть не обижаясь:
«Очень тебя хорошо, мой друг, понимаю. За Зарему я бы и сам на каторгу пошел».
К старшему Атамановскому Илья, да и другие цыгане, относились с искренним уважением: тот был страстным лошадником, умел не хуже барышников с Конного рынка осмотреть коня, вычислить его силу, характер, выносливость и долготу дыхания, безошибочно назвать возраст, найти умело скрытые изъяны и определить цену, с которой не было смысла спорить.
«За-ради бога, Николай Дмитрич, не ходите вы хоть по субботам в ряды! – полусерьезно упрашивали его цыгане. – Вы же нам всю коммерцию ломаете, все вас наперебой кличут лошадь облатошить, а нам куда деваться? Дети ведь, кормить надо!»
«Так давайте делить рынок, дьяволы! – хохотал Атамановский. – Если прогорю с лошадиным делом – пойду в барышники, все-таки хлеба кусок! Илья, возьмешь меня в табор?»
«Одного или с семейством? – деловито уточнял Илья. – В мой шатер все, поди, не влезете, и бричку новую, опять же, прикупать надо будет… Ежели вы со своим шарабаном – так возьму, приезжайте по весне…»
В цыганские дома Атамановский захаживал запросто, да и цыгане постоянно крутились в его конюшнях, где для них всегда находилась работа. Чаще всех там бывал Илья, который был готов вместе с хозяином часами сидеть под брюхом очередного приобретения и до сипа в горле спорить по поводу бабок, жабок и зубов. Последний же месяц он и вовсе оказывался у Атамановских почти каждый день, поскольку те, всю зиму копившие деньги, вот-вот должны были купить у своей варшавской родни какого-то необыкновенного племенного жеребца по имени Шамиль.
– Ой, ваша милость, Шамиля, что ли, привезли? – Илья тут же забыл о домашних неурядицах и жадно заглянул в глаза Атамановского. – Ух, как же я пропустил-то… Вот, ей-богу, на один день вас оставить нельзя! Могли бы, между прочим, и спосылать за мной! Обещали ведь, грех вам!