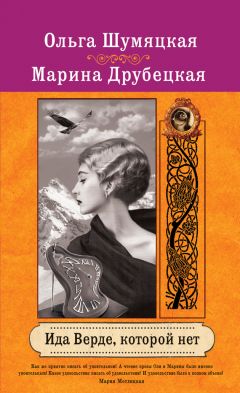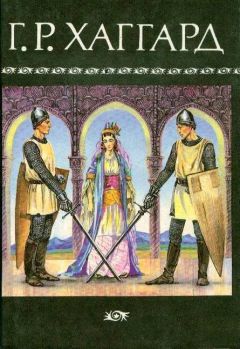Ах, как такой сюжет развеселил бы Дмитрия Дмитрича Пальмина! Какой запутанный детектив он соорудил бы – с разрезанными надвое лицами, двойниками. А теперь все его несостоявшиеся открытия перекочевывают на картины испанца Дали.
Однажды они доехали до Экс-Прованса, и там с верхней полки антикварной лавки Руничу улыбнулся «Хохочущий стул» – небольшое полотно Мити Пальмина из той серии, которую он быстро нарисовал – и еще быстрее распродал – сразу после съемок «Чарльстона на циферблате». Стул был апельсинового цвета, продавленное сиденье превратилось в кривой рот, из которого торчали редкие зубы – эдакий мелкий бандит из мебельной братии.
У Рунича защемило сердце, он крепко сжал Идину руку, прижал ее к своему похолодевшему сердцу и не отпускал, пока отсчитывал монеты за картину и пока ее паковали в несколько старых газет.
Ида пальминских рисунков не знала, но, увидев в глазах Рунича слезы, не стала расспрашивать. Фамилия Пальмина прозвучала в момент лаконичного обмена репликами между Руничем и продавцом, и она поняла, в чем дело. И вспомнила рыжий осенний день на пальминской даче, когда для знаменитого «Чарльстона на циферблате» снимали ее глаза. Рысьи глаза, как сказал тогда Рунич.
В Альпах с Руничем она чувствовала себя и взрослее, и младше одновременно. Как бы пребывала сразу в двух временах. В давнишнем московском, где мамины скандалы и гимназические подружки, где она преследовала поэта и пускалась в рискованные авантюры, и в нынешнем, альпийском – пост-лозинском. Что она будет делать, если расстанется с Лексом? Наймет другого режиссера? Начнет ставить фильмы сама – как рыжая Ленни Оффеншталь? Второе исключается – слишком трудоемко. Первое? Почему бы и нет. Заключить контракт, приезжать на съемки, слать Руничу телеграммы, что скоро вернется.
Картина стояла в гостиной нераспакованная, но с этого дня Рунич как будто ушел в себя. Сентиментальная идиллия, в рамки которой они, как персонажи этой несколько искривленной пасторали, были вписаны более двух недель, постепенно рассеивалась. Он закручивал Идины кудри в высокий «хвост», гладил лоб, пробегал сухими пальцами по контуру лица – но теперь словно выслеживал на этом маршруте какое-то нужное ему слово: он думал уже не о ней, а находился в постоянной слежке за своими мыслями.
Ночью он не спал, сидел над черновиками, а под утро засыпал, оставляя Иду одну часов до трех-четырех дня.
Она не чувствовала себя одинокой, углублялась в книги, но заметила, что он смотрит сквозь нее, как, впрочем, сквозь любую другую поверхность – будь то стена белеющей на солнце церквушки, пыльный гобелен или шелковый подол ее, Идиной, пижамы. Всюду разглядывал бликующие строчки.
Если бы они жили вместе в том приморском Хуан-ле-Пине, где он обитал последние годы, она, пожалуй, легко смирилась бы с этой замкнутостью. Ведь это часть его писательской натуры, технологии его жизни. Собственно, как и ее страстишка подыгрывать чужим людям в их жизненных ситуациях. Или – что, безусловно, интереснее – манипулировать ими. Маман всегда считала, что она фокусничает, однако из этих фокусов выросло ее желание оказаться в кинотеатральной мастерской. Но собой она манипулировать не позволяла, поэтому началась война с Лозинским.
Рунич разглядывал строчку, а Ида разглядывала узор трещин на потолке.
А как весело было устраивать авантюру с промышленником Диком! Где, интересно, теперь господин Дик? Однажды – кажется, после премьеры «Охоты на слезы» – он послал ей букет роз.
Менее расточителен Рунич стал и на ласки, однако вечерами, перед тем как ей уснуть, а ему уйти в бессонницу, он путешествовал пальцами по ее телу, размышляя вслух про найденные и потерянные рифмы и словесные поворотцы. В полусне Ида думала о том, что перевертыши значений, отблески слов для Рунича бо́льшая реальность, чем актеры и декорации для Лозинского.
Стало холоднее, и доктор Ломон потребовал, чтобы Ида вела себя осмотрительней. Он настоял на повторной фотосъемке ее легких.
Разглядывая внушительных размеров снимок, доктор Гавэ долго тараторил, явно наступая на Ломона. А она, глядя на черно-белую расплывчатую картинку с разводами эмульсии, вспомнила о том, как во время работы над первой фильмой заходила к Лозинскому в монтажную и выскочила оттуда опрометью, увидев, что неуклюжей металлической гильотинкой-ножом он кромсает мерцающую серым жемчугом пленку, разрезая ее, Идины, улыбки, взмахи рук.
От Лозинского приходили телеграммы: он справлялся о здоровье и одновременно о том, не слишком ли много она делает покупок. Ида разозлилась – не хватает, чтобы он попрекал ее тратами. Счет у них общий, и гонорары Иды не уступают, если не превосходят доходы мужа. А сейчас Лекс трусит, что неудачная фильма невероятно снизит заработки. Однако паниковать как лотошник – не очень-то красиво.
Ида написала ему недлинное письмецо: врачи, кажется, видят свет в конце тоннеля, тратить она будет столько, сколько считает нужным, фильма выйдет дивная – слишком уж шикарная складывается у нее судьба. «Не хватает только убийства и украденной пленки», – зачем-то приписала она в конце, развеселившись. За пять лет совместной жизни Лекс был совершенно изучен: от паники его следует отвлекать неожиданными ходами – он покупается на них, как ребенок на разноцветные шарики мороженого.
Ида накинула шаль – время спускаться в ресторацию, где доктор Ломон наверняка уже рассматривает карту вин. И надо написать в банк – пора разделить счета, по новым правилам это возможно. Если жизнь с Лексом – гигантская фальшивка, то что же еще придумать?
Да, она была права – Ломон не только рассматривал, а и дегустировал: окатывал глотком бархатного вина нёбо, издавал клокочущие звуки, цокал языком и хмурился на официанта, кивая в сторону другой бутылки.
Иду он встретил вопросительным подъемом бровей – лукавый Ломон взывал к подробностям. Только вчера он получил от нее записку, где сообщалось, что она будет скучать по нему как минимум три дня. Однако дивная больная тут.
– Рифмы моего друга так расплодились, что для праздных обитателей места в его библиотеке не осталось, – сообщила Ида доктору. – Я, кажется, говорила вам, что он известный русский поэт; очень хороший поэт.
Странно, но сегодня ей хотелось говорить о себе. О нем.
– Писатели всегда заняты, деточка, – тоном психиатра ответил Ломон. – А доктор Гавэ несказанно обрадовал меня, знаете чем? Тем, что ваши легкие в прекрасном состоянии. Он сам удивлен, но вы практически здоровы. Вы спросите про припадки слабости? Отвечу – прекращайте играть в больную, вот и все! Вы же, госпожа Лозински, обладаете талантом мимикрии, не правда ли?
Ида улыбнулась. Польщена.