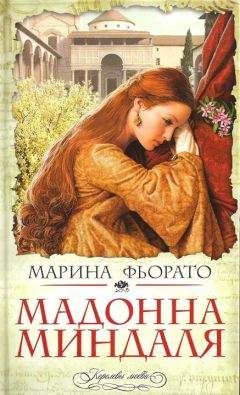— Эта круглая башня, — начала сестра Консепсьон, — построена была отнюдь не для нашего монастыря. Ей куда больше лет. Здесь некогда размещался цирк, старый римский цирк, построенный еще в те времена, когда Милан превратился в столицу Западной Римской империи. Здесь, на этом самом месте, где мы с тобой сейчас стоим, а также там, где другие сестры читают священные книги и молятся Господу, где мы выращиваем овощи и целебные травы, была арена кровавых развлечений и смерти. Там забавлялись безбожники римляне, видя, как умирают другие. Люсия погибла по обвинению приспешников императора Диоклетиана, Агата — из-за преследований слуг императора Деция. Их подвергли пыткам и казни обычные смертные люди, язычники, бывшие в свое время могущественными царями и императорами. А эта самая башня стала впоследствии тюрьмой для первых христианских мучеников: святой Жервезы, святого Протаса, святого Набора и святого Феликса. На этой арене когда-то мчались по кругу колесницы и несчастные гладиаторы, надеясь спасти свою жизнь, сражались на потеху жестокому императору Максимиану.
— Максимиану? — Бернардино вздрогнул, услышав знакомое имя.
Сестра Консепсьон быстро глянула на него слезящимися от старости и бесконечной возни с книгами глазами.
— Да. А ты слышал об этом императоре?
— Слышал. — Бернардино помолчал, припоминая то, что аббатиса рассказывала ему о святом Маврикии. — Он замучил святого Маврикия и зверски убил шесть тысяч шестьсот его воинов.
Сестра Консепсьон улыбнулась, демонстрируя почти лишившийся зубов рот.
— Именно так, — подтвердила она и, шаркая ногами, направилась обратно к башне. — А ты уже кое-чему научился, синьор Луини, — на ходу, не оборачиваясь, похвалила она. — Ты явно набираешься знаний.
Да, знаний он здесь поднабрался. Вот и сейчас он вертелся во все стороны, как волчок, с изумлением глядя на монастырские стены и круглую кирпичную башню. Ему было безумно интересно. История святого Маврикия, рассказанная аббатисой и словно ожившая тогда у него перед глазами на стене часовни благодаря силе его воображения, теперь получила вполне реальное подтверждение. Этот древнеримский император действительно существовал, он дышал, жил и развлекался здесь, в этом самом месте, любуясь теми чудовищными жестокостями, которые у него на глазах творили его слуги. И в этом самом месте теперь воздвигнут монастырь в честь того человека, которого этот император убил. У Бернардино даже голова закружилась. Он прилег на траву и стал смотреть на тучные облака, что собирались у него над головой. В душе его явно происходили перемены. И он действительно кое-чему научился.
И чувствовал, что вопреки себе постепенно приходит к Богу.
— Аманте?
— Амаре?
— Амарецца?
Симонетта и Манодората сидели за столом лицом друг к другу, и каждый держал в руках китайскую пиалу со сладким янтарным напитком, то и дело его пригубляя. Они пытались выбрать название для изобретенного Симонеттой волшебного зелья.
— Итак, — сказала она, — начнем все сначала. «Мандорла» — так у нас называют миндаль…
— Очень похоже на мое прозвище.
— Верно. А почему бы нам действительно не назвать его «Манодората»? Если ты не против, конечно. Ведь если б не ты, этот напиток никогда и не был бы создан.
Манодората покачал темноволосой головой, и бархатный «хвост» шапки, свисавший ему на спину, завилял у него между лопатками.
— Нет, это не годится. Ни в коем случае! Меня достаточно хорошо знают в здешних местах, и ты не получишь никакого дохода, подобным образом увековечив свою дружбу с евреем. Давай лучше посмотрим, что ты можешь предложить еще.
— Ну, например… старое латинское название миндаля: amygdalus…
— И что это значит?
— Так, по-моему, называются те миндалины, что у нас в горле.
— Вряд ли это привлекательное название для напитка, — фыркнул Манодората. — Что еще?
Симонетта снова пригубила ликер. Пока что она была не в силах открыто признаться Манодорате, что прозрение снизошло на нее именно тогда, когда она вспомнила о Бернардино, и в этом горько-сладком напитке словно дистиллированы были ее чувства к художнику: сладость и боль. А потому она начала так:
— Меня поразило то, что в этом напитке сочетаются сладость и горечь. А ведь и слова «amare» и «amarezza» — «любить» и «горечь» — очень похоже звучат, не правда ли?
— Вполне можно сказать, что в любви немало горечи, — кивнул Манодората. — Да и само слово «amare» является, по-моему, началом слова «amare-zza».
— По-твоему, любовь всегда кончается горечью? — слабо усмехнулась Симонетта. — Не слишком обнадеживающее заявление.
— Зато верное.
— Не в твоем случае. У тебя ведь есть Ребекка и сыновья.
— Даже те, кто любит друг друга больше жизни, редко умирают в один и тот же день. Каждый в конечном счете остается в одиночестве, но любовь живет вечно, мы ведь с тобой уже говорили об этом.
Симонетта вздрогнула, думая о Бернардино. Вспоминает ли он ее или уже лежит в объятиях другой женщины — где бы сейчас ни находился? Поистине горькая мысль!
— В таком случае давай назовем его «Amarett-o», что значит «горьковатый». Ведь наш напиток лишь чуть-чуть горек. И будем надеяться, его вкус подарит людям радость и веселье — хотя бы на то время, что мы с тобой существуем на этой земле.
С этого дня ликер «Амаретто» обрел свое название, и Манодората с Симонеттой, засучив рукава, взялись за дело. В поместье закипела работа. Манодората привел целую толпу евреев, которые не только собрали урожай миндаля, но и должным образом подрезали деревья, подготовив их к следующему сезону. Симонетта, наблюдая за рубщиками, повторяла им то, что когда-то слышала от Лоренцо: «Ветки должны быть обрублены так, чтобы ласточка могла пролететь меж деревьями даже на бреющем полете». В итоге в миндальной роще действительно появились довольно широкие, изящные аллеи, и Симонетта с террасы видела, как одна из ласточек не только стремительно пролетела между аккуратно подстриженными деревьями, но и сумела развернуться на лету. В точности как и говорил Лоренцо. Симонетту вдруг охватил странный озноб, неясные предчувствия сдавили душу, и она вспомнила, что древние римляне умели предсказывать по полету ласточек разные неприятные события. Но, решив не думать о плохом, она быстро направилась на кухню, где работницы, тоже нанятые Манодоратой, трудились вовсю, гудя, точно пчелиный улей: толкли миндальные ядра, превращая их в беловатую кашицу, и отжимали масло.
Манодората, казалось, предусмотрел все на свете. Он, например, выложил немалую сумму денег, чтобы из Константинополя специально привезли коричневый сахар, с Кипра — лимоны, а из Англии — яблоки. Гвоздика и специи были закуплены в Генуе на черноморских торговых судах и доставлены оттуда быстроногими посыльными. Перегонный куб тоже трудился день и ночь. Предприимчивые евреи, заполнив дом, казалось, заставили его вновь ожить, повсюду слышались их гортанные голоса и странные, но красивые песни. Чудесные восточные мелодии звучали в каждом уголке старого замка.