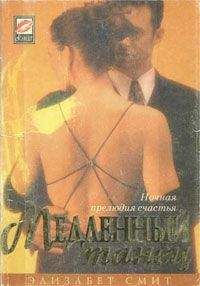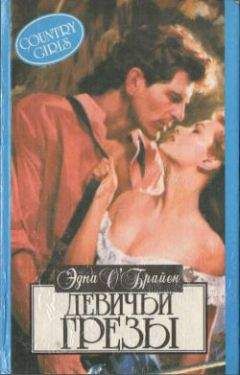Тьерри вслед за Лвид быстро поднялся по лестнице на чердак.
– Иисусе, да тут почти совсем тепло. Сенред, посмотри, нет ли там мешков, которые мы могли бы положить на сено! – крикнул он сверху.
– Сам посмотри! – крикнул в ответ Сенред. Поставив Констанс на ноги, он повернулся к кучеру, чтобы выторговать у него тарелку супа. – У моего друга с громкой глоткой, – сказал он, – есть еще в кармане несколько пенсов. Может быть, твоя добрая женушка сварит нам супа?
Кучер проворчал, что не знает, есть ли у них дома хоть какой-нибудь суп, и вышел.
Констанс стала медленно подниматься по лестнице. Тем временем Сенред искал внизу мешки для подстилок. Найдя несколько мешков и попону, он устремился вслед за Констанс. Ведущие на чердак покоробленные высокие двери были приоткрыты, и сквозь щель проникал веер неяркого света. Он отвел Констанс в дальний угол, подальше от Тьерри и Лвид, которые шумно зарывались в сено в другом углу.
Добравшись на ощупь до угла, Констанс легла, радуясь тому, что может провести ночь, имея крышу над головой. Здесь было холодно, но это был все-таки хоть какой-то дом. Она так промерзла в намокших одеждах, что, казалось, никогда не сможет согреться. Она испытала на себе, что значит путешествовать пешком, да еще с пустым желудком, и теперь знала, почему ее сердце всегда сострадало беднякам и нищим.
Сенред опустился на колени рядом, такой же мокрый, как и она. Весь этот долгий день они почти не разговаривали. Она знала, что он сильно устал, и с сочувствием смотрела, как он снимает с себя шутовской костюм, а затем стягивает мокрые сапоги. Сапоги он аккуратно поставил на сено для просушки.
Какой нечеловеческой силой надо обладать, думала Констанс, чтобы нести ее, почти не останавливаясь, с самого рассвета до заката. Ей только оставалось наблюдать, как покачивается его золотоволосая голова в такт широким шагам.
Она не сводила с него глаз, наблюдала, как вздулись мускулы на его груди и руках, когда он взял мешок и растерся им.
– Мы будем пахнуть лошадьми.
Разумеется, она была очень рада, что будет спать под крышей, на сухом сене, но все же не упустила случая поддразнить Сенреда.
Он в ответ только пожал плечами.
– Сними с себя одежду и как следует просуши, – посоветовал он и кинул ей мешок. – Можешь не стесняться, уже становится темно, и никто тебя здесь не увидит.
В этот момент двери внизу открылись, и пастух загнал двух коров. Затаив дыхание, они зарылись в сено и стали ждать, пока он поставит коров в стойла и набросает им вилами корм. Когда он вышел, они поднялись и тут же спрятались, вновь услышав скрип двери.
Старый возница посмотрел вверх на чердак. У него были с собой деревянное ведерко, миска и поварешка.
– Разрази меня гром, если это не суп! – Сенред поспешно поднялся, натянул панталоны и поспешил вниз по лестнице. – А запах-то какой!
Кучер хотел было расспросить их, откуда и куда они направляются, но Тьерри сунул ему в ладонь медяков, наполнил большую миску и отнес ее Лвид. Сенред забрал в свой угол ведерко и поварешку. Они услышали, как старик вышел и закрыл за собой дверь.
Сенред сел, вручил Констанс поварешку и поднял для нее ведерко. Это был густой, наваристый ячменный суп с репой, покрытый сверху толстым слоем бараньего жира. Констанс принялась за еду, блаженно причмокивая. К тому же суп был горячий, от него так и валил ароматный пар.
Сенред сидел, наблюдая за ней. Через минуту она удовлетворенно вздохнула и вытерла рот тыльной стороной руки.
– Даже и не говорите мне о небесных радостях.
– Стало быть, суп хорош?
– Нет, он просто чудесен.
Она взяла поварешку, сунула ее в суп и вытащила оттуда полную до краев.
Когда он хотел взять поварешку, Констанс убрала ее.
Их глаза встретились. Долгое время они молча глядели друг на друга. Затем она поднесла поварешку к его рту. Он проглотил ее содержимое, взял поварешку и начал есть. Через раз он угощал ее, и так продолжалось до тех пор, пока ведерко не опустело.
Констанс откинулась на сено и закинула руки за голову. Это было настоящим чудом – не чувствовать себя насквозь промокшей и замерзшей, ощущая в то же время, как суп приятно согревает желудок. Никогда в жизни ей не было так хорошо. Тяжелые струи дождя барабанили о соломенную крышу, навевая сон. За дверью, ведущей на чердак, стало почти темно. Она чувствовала себя гораздо лучше. Тем более что ей удалось поспать ночью, когда он нес ее на себе.
Сенред взял в руки сапожки, пошитые Лвид из монашеской рясы. Он перебирал пальцами сырую грубоватую ткань, которую монахини носят летом и зимой. На его лице застыло странно-задумчивое выражение, но она не могла догадаться, о чем он размышляет. Одну за другой он вытаскивал из мокрой ткани соломинки и складывал их в кучку. А дождь все стучал и стучал по крыше. Не поднимая глаз, Сенред тихо заговорил:
– Это я отвез ее в ту последнюю ночь в Аржантей в монашеской рясе. Это было для меня настоящим проклятием. Если бы не я, Абеляру не удалось бы погубить ее.
Опустив руки, Констанс посмотрела на него, не уверенная, что слова Сенреда обращены к ней.
Он продолжал перебирать черную ткань.
А затем тем же голосом сказал:
– Я был их посыльным. Когда она хотела передать ему записку, я относил ее. Или отводил ее к нему по темным ночным парижским улицам. Я несколько лет проучился в парижских школах, был хорошо знаком с Пьером, поэтому Абеляр и доверял мне подобные поручения. И то последнее – отвести ее в аржантейский монастырь.
Он поднял свои странно просветленные глаза.
– Я любил ее. Да простит меня бог, я любил ее так безумно, что считал неоправданным доверие ко мне Абеляра. Потом, после долгих размышлений, я понял, что он, вероятно, знает о моей любви и использует ее в своих целях. И когда я увидел, как он с ней поступает, то готов был его убить и, может быть, даже убил бы, но ведь она любила только его, его одного, не замечала никого, кроме него, и, убей я его, она возненавидела бы меня.
В то утро, после того как его оскопили, я отвел ее к нему из Аржантея. Я стоял в коридоре на верхнем этаже, среди собравшейся толпы, держа ее в своих руках, ожидая, пока Абеляр позовет ее, но он так и не позвал. Мне не оставалось ничего иного, кроме как отвести ее обратно в монастырь в этой проклятой одежде, которая причинила ей столько горя.
Он отбросил сапожок в сторону.
– Ты не хочешь спросить меня, как тогда в Винчестере, отчего помутился мой рассудок?
Констанс приподнялась на локте. Его лицо выражало такую нестерпимую боль, что она смогла только выдавить:
– Я никогда не спрашивала тебя об этом…
– Что верно, то верно, не спрашивала. Просто сказала об этом как о чем-то само собой разумеющемся.