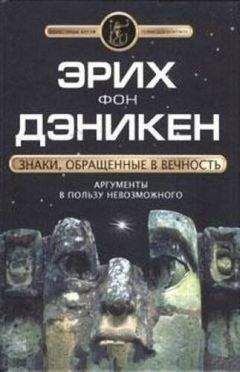Спустя час Хофман пожаловалась, что у нее отваливается рука, и поинтересовалась, не хочет ли господин Мельцер выпить кофе.
– Мы закончили, фрейлейн Хофман. Стенографировать с вами – что брецели печь. Машинописный текст может подождать до завтра.
– Благодарю вас, господин Мельцер. С вами работать – всегда удовольствие.
Пауль на минутку заглянул к отцу, тот с мрачной миной сидел над письмом, которое в результате спихнул на сына. Пришло время показать, чему Пауль научился в университете. Речь шла об адвокатском письме, в нем конкурент обвинял Мельцера в том, что тот неправомерно использовал – читай: украл – узор с его ткани.
– У него ничего не выйдет, отец.
– Но раздражает. И стоит денег и усилий. Будто нам заняться нечем…
Отец показался Паулю дерганым и рассеянным. Это вызывало беспокойство. Ему было за шестьдесят, но в последние месяцы он заметно постарел. Борода поседела, под глазами образовались мягкие складки-полукружья.
– Я еще съезжу в больницу, взгляну на Ханну Вебер. Ее мать приходила.
Мельцер-старший кивнул, очевидно, обрадовавшись тому, что Пауль взял это на себя. Иоганн слышал ткачихину ругань даже в своем кабинете. Если бы не несчастный случай, он давно бы вышвырнул бабу на улицу. С его стороны было ошибкой несколько раз давать ей деньги…
Пауль ухмыльнулся и не стал напоминать отцу, что тот по собственной воле попал впросак. Он и так злился.
– Всё бабы, – проворчал Мельцер-старший. – Читал утром «Альгемайне»? [19] Суфражистки! Дикие фурии в женском обличье. Бесстыжий сброд. В Англии разбили окна в министерстве внутренних дел. Бросаются под конные экипажи, поджигают дома, купаются в реке в чем мать родила…
– Ух ты! – Пауля позабавил рассказ отца. – Кажется, тебя это и впрямь бесит. Дамы всего-то требуют для себя избирательного права, и я искренне недоумеваю, почему бы им не…
Директор Мельцер уставился на сына так, словно видел его впервые:
– Да понимаешь ли ты, что Европе конец, допусти женщин до избирательной урны! – гневно прикрикнул он на сына.
– Многие женщины умны и рациональны. Например, мама…
Тут сын загнал его в угол. – Иоганн вынужден был признать это. Против мамы он войной не пойдет. Но женщины вроде Алисии должны находить применение своим талантам в рамках домашнего хозяйства, на благо мужьям и семье. Чем Алисия, несомненно, и занимается. Однако же сложные дела в рейхстаге женщинам неподвластны, у них для этого – пардон – не хватает ума. Судьбы империи должны определять мужчины, так было и так будет всегда.
Пауль не стал спорить, хотя не по всем пунктам был согласен с отцом. Китти, кстати, очень поддерживала суфражисток, она вообще любила провоцировать окружающих странными идеями. Отец не поминал Китти вот уже несколько дней, но этот приступ гнева лишний раз доказывал, что беглая дочь занимала его мысли.
– Я через часок-другой вернусь, отец.
– Не разгуливай особо!
Пауль поехал на виллу, оставил машину перед дверью, пролетел мимо удивленной Эльзы и побежал наверх. В холле второго этажа столкнулся с экономкой – по обыкновению чопорной и аккуратной. На ее лице была усталая улыбка.
– Моя мать в красной гостиной, фрейлейн Шмальцлер?
– Ваша мать в постели. У нее сильная мигрень.
– Ах ты, господи! – воскликнул он и остановился. – Пожалуйста, передайте ей кое-что немного погодя.
– Разумеется…
Они оба усмехнулись. Фрейлейн Шмальцлер жила в доме, сколько Пауль себя помнил, уже тогда о его тайных «отлучках», первых сигаретах, любовных приключениях ей было известно больше, чем родителям. Чаще всего она, добрая душа, покрывала мальчика, даже в ущерб себе.
– Я еду в больницу навестить пострадавшую девочку, – объяснил он. – Хочу взять с собой Мари.
– Мари? Но… при чем здесь Мари?
Конечно, она его раскусила. Можно было утаить что-то от родителей, даже от Лизы, но не от персонала. И уж тем более не от Шмальцлер.
– Она должна будет поговорить с пациенткой, – попытался он найти причину. – Есть кое-какие неясности. Мне девочка ничего не расскажет, но Мари, возможно, ее разговорит.
– Возможно, – согласилась экономка. – Я пошлю Мари вниз.
Он смотрел на Шмальцлер и был готов броситься ей на шею.
– Благодарю, фрейлейн Шмальцлер. Я жду в машине.
После того сумасбродного и прекрасного поцелуя они больше не разговаривали. Она избегала его, по возможности пользовалась черной лестницей, задерживалась в комнатах, в которые он не имел доступа. Поначалу он чувствовал сильное разочарование, даже гнев. Что он такого сделал, что она вздумала от него бегать? Поцеловал, и все. Более того, он был почти уверен, что не принуждал ее. Мари, высоконравственная Мари, ответила на его поцелуй. Обвила руками его шею, так что он ощутил ее сладкое влечение, и ответила на поцелуй. Другой бы воспользовался моментом и отбуксировал бы девушку в свою спальню. Наверное, так и нужно было сделать.
«Нет, – стыдясь своих мыслей, думал Пауль. – Я бы все испортил. Во-первых, она бы не пошла, во-вторых, презирала бы меня как бабника. Нужно терпение, нужно дать ей время и ждать случая объяснить свои истинные намерения». Он хотел не интрижки, он хотел… другого. Вот только сам еще не понимал, что из этого может получиться.
Несколько раз они сталкивались внизу, Пауль ей улыбался и желал хорошего дня. Она отвечала серьезно, но приветливо и шла по своим делам. Несколько раз он заставал ее в красной гостиной с Лизой и матерью, Мари сидела на стульчике, вязала крючком и рассказывала какую-нибудь историю, заставлявшую улыбаться обеих дам. Но стоило ему присоединиться к их компании, Мари тут же просили уйти. Несколько недель спустя Пауль понял, что такая его плодов не принесет. Терпение – вещь хорошая, но чем дольше он тянул с объяснениями, тем более между ними укоренялось непонимание. Что неудивительно: как она могла понять, что у него на уме не интрижка. Пауль и сам удивлялся собственным ощущениям. Было необходимо поговорить с ней, один на один, без свидетелей, без чужих ушей. Салон автомобиля подходил для этого как нельзя лучше.
Пришлось ждать. Пауль нетерпеливо ерзал на водительском сиденье и барабанил пальцами по рулю. Он вспомнил рассказ Гумберта о том, как Мари вчера побывала в домике садовника. Якобы она поранилась в парке, и садовнику пришлось осмотреть ее рану. К сожалению, Гумберт не сказал, который из двух садовников обрабатывал Мари рану. Старый или молодой. Густав Блиферт, конечно, был не Адонис, и c мозгами у него не все в порядке, однако социально Мари к нему ближе. Даже если между камеристкой и садовником есть некоторая разница, она существенно меньше, чем та, что между камеристкой и сыном хозяина.
– Простите, что заставила ждать, господин.
Голос Мари вырвал Пауля из его размышлений, он посмотрел в ее серьезное, слегка встревоженное лицо. Наконец-то пришла. С сожалением объяснила – правда или выдумала? – что должна была закончить прическу Элизабет, та собиралась к подруге.
– Садись рядом со мной.
Она уже стояла, держась за заднюю дверь, но послушалась и села вперед. Одета она была в темное платье и длинный приталенный жакет из такого же материала. Если Паулю не изменяла память, вещи раньше принадлежали Китти. Волосы, как и всегда, были убраны в пучок и спрятаны под очаровательной шляпкой, которую он не видел ни на Китти, ни на ком другом.
– Выглядишь очень мило, Мари.
Она посмотрела на него искоса долгим недобрым взглядом, который сбивал с мысли. «Только бы теперь на напортачить», – подумал Пауль и повернул ключ зажигания; машина с первого раза не завелась, пришлось повторить попытку.
– Да, управлять автомобилем непросто, – констатировала Мари. – Есть женщины, которые умеют это делать?
– Конечно. Это совсем не трудно, просто я сейчас немного неуклюж.
Пауль смущенно засмеялся и обогнул цветочную клумбу, пестрящую желтыми нарциссами и красными тюльпанами. В парке на лужайках повсюду цвели фиолетовые крокусы, местами напоминавшие толстые подушки.



![Эрих фон Дэникен - Боги майя [День, когда явились боги]](https://cdn.my-library.info/books/171732/171732.jpg)