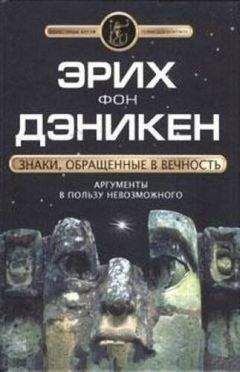– Должно быть, они все языки себе стерли, обсуждая нас с тобой, – шепнула она Мари. – Им ведь нечем, бедным, заняться. Пойдем в буфет, пока там не закончились бутерброды с лососем и лимонный сорбет.
Мари прилагала огромные усилия, чтобы не показывать, как глубоко ее ранили оценивающие взгляды и двусмысленные замечания. Конечно, Пауль ее защищал, как мог, Альфонс тоже выручал. Где бы ни появлялся наш банкир, ему отовсюду сыпали комплименты, улыбались, рассказывали истории, чтобы показать себя в лучшем свете. Мари быстро поняла, что это внимание он заслужил не только своим дружелюбием и деликатностью. Банк Бройеров многим из присутствующих оказывал непосредственную финансовую поддержку.
– Вон там стоит Герман Кохендорф, – сказала Китти Мари, поедая сорбет. – Мерзкий тип, ему уже за сорок, денег куры не клюют, и он член магистрата. Рядом с ним адвокат Грюнлинг, страшный, как кошмарный сон, но мнит себя Адонисом. Там же и медицинский советник Грайнер. Он непременно хотел уложить папочку в больницу, но ему не повезло. Дальше доктор Шляйхер, к которому меня все время таскала мама из-за моей бессонницы… Мари, не хочешь попробовать сорбет? Возьми себе быстро, не уверена, что через некоторое время здесь останется хотя бы малиновое мороженое.
У Мари закружилась голова – наверное, зря выпила пунша, она была непривычна к алкоголю. Что за день сегодня! До сих пор она участвовала в подобных празднествах лишь в качестве прислуги, когда для удовольствия хозяев и их гостей приходилось весь вечер бегать и только ночью можно было не чуя ног упасть в постель. Она всегда думала, что для людей, которым не нужно работать, эти сборища – чистое удовольствие. Теперь она видела, что это не так, и чувствовала себя как выжатый лимон.
– Извини, Китти, – тихо проговорила она. – Я сейчас вернусь.
Она пошла в холл, чтобы поправить прическу за одним из импровизированных туалетных столиков, но все места были заняты, а желания вступать в разговоры с дамами у нее не было. Почти всегда дамы при ее появлении умолкали, натужно улыбались и меняли тему, и ей было неприятно. Вообще-то она вовсе не волосы хотела поправить или брызнуть на себя духов – она желала побыть наедине с собой. Насколько же комфортнее она чувствовала себя на кухне среди персонала. Конечно, и там бывали ссоры, но большая плита с голубым кофейником и отведенное ей место за длинным столом для прислуги с самого начала стали для нее своего рода убежищем. Недолго думая, она открыла дверь в подсобные помещения и вошла в кухню. Там царил привычный хаос, какой бывает во время больших праздников. Стол был заставлен судками и блюдами с готовыми и полуготовыми закусками, на плите дымились кастрюли, и надо всем этим господствовала повариха – запыхавшаяся, неприветливая, колпак набекрень.
– Что стряслось, лентяи? – проворчала она, не глядя на Мари. – Когда-то тут помогал Роберт, он бы вам ноги повыдергивал, можете мне поверить…
И только потом заметила, что перед ней стоят не лакеи, а Мари. Она оставила половник и уперла руки в боки.
– Госпожа фрейлейн Мари! – произнесла она полусвирепо-полунасмешливо. – На кухне господам не место. Она для прислуги!
Гумберт протиснулся мимо Мари, чтобы отнести в буфет два блюда со сладкими ореховыми треугольниками и миндальными сладостями. Он тоже встал как вкопанный, вслед за ним пришла Ханна с подносом, полным грязных тарелок и пустых бокалов.
– Мари! – просияв, закричала она. – Ах, Мари, как же мне тебя не хватает!
– Замолчи! – прикрикнула на нее повариха. – Теперь ты должна говорить «госпожа фрейлейн». Наша Мари теперь на вилле молодая госпожа!
В ее последних словах звучало столько гордости. Она сказала «наша Мари». После всех оценивающих и недобрых взглядов их высокоблагородий проявление такой верности было очень приятно.
– Как это на кухне господам не место? – смеясь, заметила Мари. – Даже если я «госпожа фрейлейн», я могу прийти к вам и посмотреть, все ли хорошо.
– Но так, чтобы не говорить мне под руку, фрейлейн, – предостерегла ее Брунненмайер.
– Я и раньше так не делала.
– Ну тогда я согласная!
Мари посторонилась, пропуская Гумберта, и поняла, что только мешает. Эльза вместе с двумя камердинерами вытаскивала в парк фонари и факелы – в надвигающихся сумерках огни создадут празднику романтическую атмосферу. Пришли музыканты, Алисия указала им на террасу, где они будут музицировать во время танцев. Мари решила пару минут побыть в комнате Китти, перед тем как подвергнуться очередному испытанию. Китти научила ее нескольким основным бальным танцам, в первую очередь – вальсу, который дался Мари легко, польке и галопу. Китти сказала, что поскольку на террасе ни коллективных танцев, ни французской кадрили, ни контрданса, скорее всего, не будет, трудностей возникнуть не должно.
И кроме того, у Мари была природная грация, и этого было достаточно.
На третьем этаже, к счастью, было очень тихо. Лишь несколько девушек, все подруги Элизабет, они занимали туалетные комнаты и оживленно обсуждали свое удачное выступление. Мари хотела юркнуть в комнату Китти, но тут услышала знакомый мужской голос:
– Кто-нибудь знает об этом?
Голос принадлежал Клаусу фон Хагеману. Но что он делал здесь, в туалетной комнате?
Подслушивать чужой разговор было неприличным. Но Мари задержалась в холле. Не Августа ли с ним?
– Никто, кроме Густава. Ему я должна была сказать.
– Но почему?
Вопрос молодого человека прозвучал нервно. Он говорил сдавленным голосом, который, однако, было отчетливо слышно:
– Потому что он мой муж, от него у меня нет тайн. И потому что иначе он бы удивился, откуда у меня деньги…
– Тогда позаботься о том, чтобы он молчал. Я не хочу скандала.
– Ну а как вы думаете? Это нам самим бы только навредило. Деньги-то нам нужны.
Мари услышала длинное проклятие.
– Был бы мальчик, я бы взял его. Но девочку…
– А мне девочка в самый раз, Густав еще наделает мальчиков…
Возможно ли в такое поверить? Эта проходимка выклянчила себе у жениха Элизабет содержание на их ребенка. Мари поспешила закрыть за собой дверь комнаты Китти, она не хотела, чтобы лейтенант увидел ее в холле.
Если он ей платит, для этого должна быть причина. То есть у Августы не только с Робертом была связь, она и фон Хагеману открывала дверь. Отчего же она назвала дочь Элизабет и даже позвала сестру Пауля в крестные? Ох, как это было подло. Будто она за что-то хотела отомстить.
Кто-то постучался в дверь, и Мари испугалась, подумав, что фон Хагеман ее заметил. Но это был Пауль.
– Ты где, дорогая? – озабоченно спросил он. – О тебе все спрашивают.
– Правда?
Он обнял ее, и они вместе подошли к окну. Уже опустились сумерки, и парк, словно волшебную страну, освещали маленькие лампочки и факелы. Деревья отбрасывали гротескные тени, цветные огоньки танцевали на лужайке, шныряли какие-то странные существа, дети играли в прятки, парочки уединялись, желая ускользнуть от родительского ока. Маленький оркестр заиграл вальс из какой-то оперетты, и Мари почувствовала на своей талии руку Пауля.
– Этот первый наш танец, Мари, – прошептал он ей на ухо. – Только для тебя и меня, вдали от назойливых глаз, не дававших нам покоя в саду.
Она прижалась к нему и вторила его движениям в такт музыке, они двигались как единое целое.
– Я знаю, как тебе тяжело, любимая моя, – прошептал он. – Но я рядом. Я поддержу тебя и буду бороться за тебя. Вместе мы справимся, верь мне.
– Я всегда верю, Пауль. – Она закрыла глаза. Он сделал ей признание в присутствии этой чванливой публики. Он был ее судьбой, любовью всей жизни. Ничто теперь не может разлучить их. Что в сравнении с этим какие-то люди в саду?
Они танцевали, не отрываясь, отдаваясь звукам музыки, вдыхая сладкую близость друг друга. Все ближе, все теснее, пока наконец не слились в поцелуе.
– Пойдем, – прошептала Мари, отстранившись.
И они пошли вниз рядом, рука об руку.



![Эрих фон Дэникен - Боги майя [День, когда явились боги]](https://cdn.my-library.info/books/171732/171732.jpg)