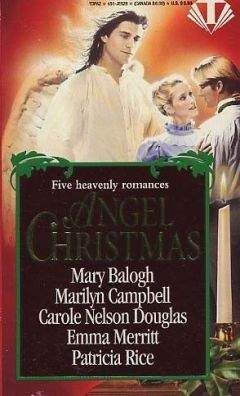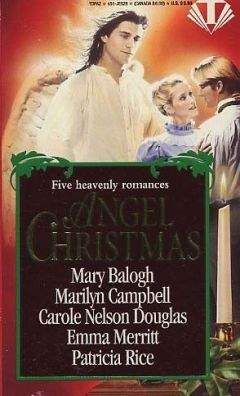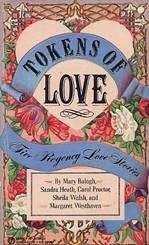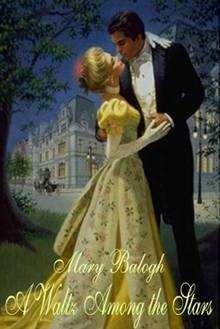Эллиот!
Она ожидала, что почувствует возмущение, гнев, негодование, панику.
Все детство она поклонялась ему, своему взрослому, красивому, совершенному кузену, который на самом деле не являлся ее кровным родственником. Все годы, пока он был вдали, на войне, она очень переживала, опасаясь за его жизнь. Когда он вернулся, она безумно в него влюбилась. И вышла за него замуж, уверенная, что в будущем ее ожидает одно безоблачное счастье.
А столкнулась с суровым, капризным, необщительным незнакомцем в роли мужа. С человеком, который игнорировал ее и желал видеть только в одной роли. С человеком, который, казалось, почти ненавидел ее и сопротивлялся всем ее попыткам проявить нежность и вызвать на разговор. Он хотел делать с ней только это , снова и снова, ночью и днем. Он был ненасытен и внушал ей, невинной, неконтролируемый ужас. Всегда резкое, глубокое, безжалостное проникновение в ее тело, затем свирепые болезненные удары, а затем кульминация, когда он рыдал от облегчения. Она чувствовала себя бездушным телом.
И все же теперь она вовсе не была испугана. Или возмущена. Или даже смущена. И ей не хотелось отстраняться от него, хотя он, проснувшись, мог обнаружить их в таком недвусмысленном положении.
Как это странно, подумала она. Очень, очень странно. Всего лишь несколько часов назад она направлялась в Хэммонд-Парк на празднование Рождества. Она воображала, как поедет на Сезон в Лондон и, наконец, выберет себе любовника. Она пришла бы в ужас, если бы знала, что в это же время Эллиот тоже направляется к своим деду и бабке. А затем случилась эта неожиданная и странная метель, и их обоих спасли и привели сюда. Только теперь ее осенило, что она не видела Джоса до того, как он вошел в дом с Эллиотом. Где он был целых полчаса до этого? И почему здесь не было других членов семьи?
Но здесь были они, она и Эллиот, странным образом оказавшиеся вместе в этом домике. Вынужденные делить постель. В тесном объятии в центре кровати.
И все же она не испытывала страха. Только глубокий покой.
А затем она вдруг кое-что осознала. Несмотря на то, что он был так расслаблен, его дыхание было слишком поверхностным для спящего. И нечто еще, настолько красивое и настолько навевающее сон, что поначалу она вообще это не заметила: на чердаке пела миссис Паркс, пела нежно и с любовью. С беспредельной любовью. Должно быть, мальчик спал беспокойно и она пела ему Рождественскую колыбельную.
– Люли, люла, ты малютка моя… (1)
Но нет, были слышны два голоса – нежное контральто миссис Паркс и высокое чистое сопрано мальчика.
Джун не думала, что могла не услышать пения сразу как только проснулась, однако допускала, что оно слышалось ей во сне. Она почувствовала, как подступают слезы. Слезы радости? Что такое было в этих звуках, чтобы испытывать радость?
– Джун? – тихо и нежно прошептал он ей на ухо. – Я не хочу умирать. Я хочу жить.
Она услышала, как он сглотнул.
– Я хочу, чтобы ты жила.
Она не совсем понимала, что он имел в виду. Возможно, он тоже очнулся ото сна и эти слова были просто отголосками сновидений. А возможно, он вспомнил вчерашний день. И все же она почувствовала более глубокое значение того, что он только что произнес. Она осознала, хотя до конца не понимала этого даже теперь, что эти слова выражали сущность его личности с тех пор, как он вернулся с войны. Он хотел жить. Тот первый чудовищный месяц их брака показал его отчаянное стремление найти опору в жизни – и обнаружил ее замешательство и испуг, ее стремление сбежать от всего этого.
Что она сделала с ним в своей наивности? Что он сделал с ней из-за своей боли? Что они сделали друг с другом?
И тут она совершила то, что рассудок не велел ей делать. Она повернулась в его руках и легла к нему лицом. В памяти всплыли ощущения, связанные с этим телом, крепким и воистину мужским, хотя прежде она знала только его тяжесть на себе, когда он пользовался правом супруга. И пахло от него точно так же, как и тогда – мылом, выделанной кожей, потом, мужчиной. Запахами, которые всегда вызвали в ней почти панический ужас.
Теперь же к нему было так приятно прикасаться и пах он просто замечательно.
– Они спасли нас, Эллиот, – прошептала она. – Наверное, есть причина, почему это должно было случиться, не так ли? Мы будем жить.
Она чувствовала, что ее слова значили больше того, что она произнесла вслух.
– Эллиот, – снова прошептала она. – Но как они узнали, что мы там были? И почему они поют?
Не ответив на ее первый вопрос, он притянул ее голову к себе, поудобнее устроил на своем плече и прижался щекой к ее макушке.
– Они поют колыбельную для нас, – тихо сказал он.
Колыбельная пелась для младенца Иисуса. Или для Джоса. И все же, его слова не показались нелепыми. Ничего из случившегося не казалось нелепым.
Она умиротворенно вздохнула и опять скользнула в сон.
Примечание:
(1) – Люли, люла, ты малютка моя… – начало Coventry Carol, Рождественского гимна, датируемого 16-м столетием.
Гимн обращается к Резне Невинных, когда царь Ирод приказал, чтобы все младенцы мужского пола в Вифлееме моложе двух лет были убиты. Этот гимн представляет собой плач матери по ее обреченному ребенку.
Coventry Carol
Lullay, thou little tiny child, lullay
By, by, lully, lullay
Lullay, thou little tiny child, lullay
By, by, lully, lullay
Oh sisters too, how may we do
For to preserve this day
This poor youngling, for whom we sing
By, by, lully, lullay
Herod the king, in his raging
Charged he hath this day
His men of might, in his own sight
All children young to slay
The woe is me, poor child for thee
And ever mourn and pray
Lullay, thou little tiny child, lullay
by, by, lully, lullay
И, что называется, "это интересно":
Не зная, как отыскать Младенца-Христа, царь Ирод дал ужасное приказание: убить всех младенцев, в Вифлееме и его окрестностях, от двух лет и моложе. Он надеялся, что в числе этих младенцев будет убит и Христос. Так он рассчитывал по времени явления звезды, о чем выведал у волхвов. Посланные Иродом воины убили в Вифлееме и окрестностях его четырнадцать тысяч младенцев. Повсюду раздавались вопли и крики матерей, которые неутешно плакали о своих детях, – невинных младенцах, убитых по повелению жестокого царя. Это были первые страдальцы, пролившие свою кровь за Христа.
Вскоре после этого Ирод был наказан за свою жестокость. Он заболел ужасной болезнью. Тело его заживо гнило и съедаемо было червями, и он умер в страшных мучениях.
Церковное предание указывает различное количество погибших младенцев; в византийской традиции принята цифра 14 тысяч, в сирийской – 64 тысячи, встречается и символическая цифра 144 тысячи (12 в квадрате, соответствует числу запечатлённых в Апокалипсисе, по 12 тысяч от каждого из 12 колен Израиля). Богословы отмечают, что сам факт избиения младенцев упомянут только Матфеем, о нём не пишет Иосиф Флавий – всё это заставляет учёных ставить под сомнение данный факт. Но поскольку жестокость Ирода нашла отражение у историков, то часть из них соглашается, что убийство младенцев могло быть осуществлено по приказу царя, но число их было незначительным, а не 14 000 (или 144 000), как указано в богослужебных книгах. Действительно, например, по наиболее вероятным подсчётам население всего Вифлеема в те времена не превышало 1000 человек, соответственно, при рождаемости 30 детей в год, младенцев мужского пола в возрасте до двух лет должно было найтись никак не более 20. В СМИ было сообщение о находке археологами древнего захоронения с останками около 200 младенцев