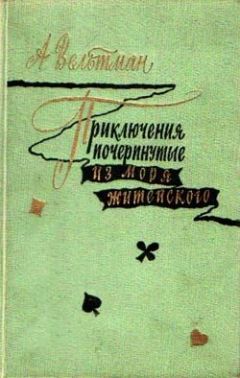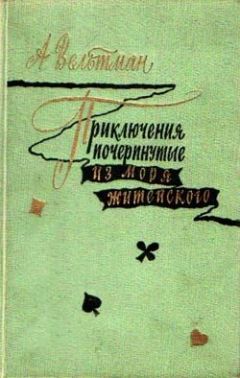— Вон! — крикнул Дмитрицкий. Все вдруг умолкли.
— А что ж пану угодно? — вызвался Соломон.
— Молчать!.. Ты! показывай серьги брильянтовые!.. Скверные!..
— А вот зе лучше! работа какая! брильянты с бирюзой.
— Гадкие! что стоют?
— Дешево, пан, для пана триста червонцев.
— Сто хочешь?
— Да помилуй, пан, как это можно покупать такую дрянь! им вся цена десять карбованных! Камни фальшивые! — вскричал Черномский.
— Тебя спрашивают? — прикрикнул Дмитрицкий.
— Пан только деньги бросит; у меня есть брильянтовые серьги, я пану уступлю их за сто червонных, не такие, — сказал Черномский.
— Свои подаришь сам невесте… Это что, мундштуки? что этот стоит?
— Двадцать червонных.
— Десять.
— Ах ты, свента матка Мария! Это композиция!
— Мне все равно, композиция или янтарь, я покупаю, что мне нравится.
— У пана денег много! пану деньги нипочем! пан их не наживал трудом!
— Ни трудом, ни мошенничеством: по наследию достались; и потому молчи! Что это, шали? Показывай.
— Аглецкие, самые лучшие! бур де су а![95]
— Что голубая?
— Пятьдесят червонных.
— Дорого! возьмешь и половину.
— Видно, пан знает толк, — сказал Черномский, ахнув, — сшивная, середина от старой дрянной шали, девки носят! Возьми, пан, за эту цену мою тибетскую.
— Пустяки! Ты свою подаришь сам невесте; а эту я подарю ей.
— Чтоб моя невеста носила такую поскудную шаль! фи!
— Не хочешь? Ну, так я подарю ей турецкую, выпишу из Одессы.
— Турецкую пану! у меня такая турецкая… Дз, эх! — вскричал жид и, оставив свой узел и шали, разложенные по полу, схватился за шапку и побежал вон.
— У пана много денег, что пан так бросает их! — сказал Черномский с страдальческим выражением лица, как будто у него жилы тянут.
— А тебя кто просит сожалеть о моих деньгах?
— Нельзя, пане, нельзя не жалеть; деньги не легко достаются.
— Потом и кровью: оттого-то ты такой худой и бледный. Трудно переводить деньги из чужого кармана в свой! Вели-ко подать мне бутылку шампанского — я выпью за твое здоровье,
— Пану шутки!
— Вот, васе сиятельство! вот настоящая турецкая! — вскричал запыхавшийся жид, вбежав в комнату с новым узлом.
— Показывай!
— Ганц фейн![96] Дз-эх! вот шаль! у султана турецкого нет такой!
— Что стоит?
— Пятьсот червонных; только десять червонных и наживаю барыша.
— Я тебе дам за нее…
— Пан! — вскричал Черномский, — для бога, позволь мне торговаться и покупать пану! Пан не знает толку в товарах!
— А тебе-то что?
— Не могу! панья матка бога, не могу!
— Ну, изволь, покупай!
— Что просишь ты за шаль? а? — спросил Черномский, уставив глаза на жида.
— Пятьсот червонных.
— Берешь восемьдесят?
— Пан покупать не хочет, — сказал жид, складывая шаль.
— Тут тебе ровно десять червонных наживы.
Жид, ни слова не говоря, сложил шали в узел, укрутил его тесьмой, взвалил на плечи и сказав… «прощайте, пане!» вышел.
— Ты с ума сошел, вместо пятисот даешь восемьдесят! Мне шаль нравится, я дам ему двести пятьдесят червонных.
— Завтра шаль будет у пана за семьдесят пять червонных. Не хотел брать десяти барыша, — возьмет пять.
В тот же день жид пришел снова.
— А что ж, пане, шаль? Деньги нужны, в убыток продаю; извольте, беру четыреста червонных.
— Восемьдесят.
— Триста пятьдесят, угодно?
— Ни копейки.
— Ну! будь пан так счастлив! отдаю за триста! И жид хотел развязывать узел.
— И не хлопочи! Больше восьмидесяти сегодня не возьмешь, а завтра отдашь за семьдесят пять.
— Пану не угодно покупать? — сказал жид; долго завязывал узел и, наконец, ушел.
Через час явился снова, сбавил цены на половину.
Через час снова пришел и, положив шаль на стол, сказал:
— Эх, что делать! Пан такой счастливый! Уж я знаю, что пан сам что-нибудь прибавит.
— Как же это ты, жид проклятый, — сказал Дмитрицкий, — запросил пятьсот червонных, а отдал за восемьдесят?
— А что ж, я виноват, — отвечал жид, — коли нет счастья!
Дмитрицкий давно не был на родине, в славном Путивле, где некогда на городских забралах горько плакала Ярославна, молилась ветру, чтоб он вздул паруса милого друга Игоря Всеволодовича на обратный путь из стран половецких; молилась Днепру, чтоб он взлелеял на себе насады (корабли) его, молилась тресветлому солнцу, чтоб оно не палило в безводном поле жаждою дружину храброго князя.[97]
Но этой ограды Путивля, с которой Ярославна встречала взорами своего милого князя, давно уже и следа нет. И тут, как и везде, давно русские терема и светлицы стали щебнем, а жизнь черноземом — до материка не дороешься.
Тетка Дмитрицкого, Дарья Ивановна, была замужем за мелким чиновником, который волею божиею помре, оставив ей и дочери Наташеньке в наследие маленький домик. С этого домика Дарья Ивановна получала около трехсот рублей, а иногда и поболее доходу. Наташенька, в коленкоровом платьице, была миленькая девочка. Курс учения ее был не велик. Имея хорошие от природы способности, она выучилась, можно сказать, сама читать и писать, выучилась шить платьица, корсеты и юбочки, вязать и штопать чулки, выучилась завивать себе на ночь волосы, а поутру расчесывать и разглаживать по щеке, распускать локонами, заплетать косу, свертывать ее жгутом и затыкать гребнем, следуя моде, то на макушке, то на затылке; выучилась учтиво приседать и смотреть умильно глазками на молодых людей — этому выучила ее природа; выучилась смотреть скромно и равнодушно на пожилых, — и этому выучила ее природа. Сверх всего этого она переняла у одной подруги играть на гитаре и петь целых три романса: двух соловьев да, кажется, канареечку.
Покуда домик Дарьи Ивановны не требовал починки, крыша не текла, стены и балки не подгнили, до тех пор Дарья Ивановна и думать не думала ни о чем; приход с расходами был верен.
— Чего ж более, слава тебе, господи, — говорила она всему городу (потому что со всем городом была знакома), — ни в чем не нуждаюсь.
Злые языки длинны, никак не обойдутся без того, чтоб не сосчитать, что в чужом кармане, не переверить чужого приходу с расходом, не вывести сомнений: возможно ли прожить целый год в довольствии тремястами рублями, — ну, положим, хоть и тремястами пятьюдесятью? и не заключить: уж, конечно, что регистратор Фирс Игнатьич живет лет восемь в деревянном домишке Дарьи Ивановны не даром.